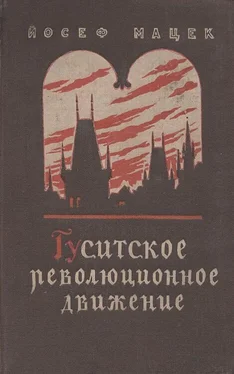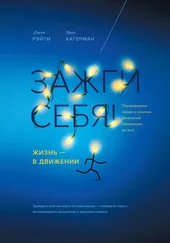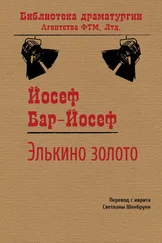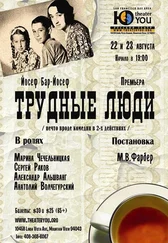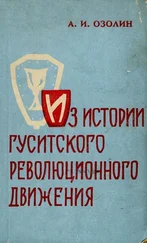Томаш Штитный, Ян Гус, Якоубек из Стржибра и Петр Хельчицкий отстаивали интересы прежде всего деревенской бедноты, а не богатых крестьян (следует принять во внимание, что в старочешское понятие «беднота» включалось понятие всего крестьянства). Понятно, что деревенская беднота и зажиточные крестьяне по-разному относились к важнейшим проблемам, волновавшим тогдашнее общество. Зажиточные крестьяне видели в бедноте врага. В записанном Ондржеем Ржезенским диалоге между зажиточным крестьянином и священником речь идет как раз о такого рода противоречиях: «Однажды один зажиточный крестьянин в разговоре со священником сказал: «Мне кажется, было бы справедливо, если бы паны не обременяли нас так сильно». Тогда священник спросил: «А как это сделать?» Зажиточный крестьянин ответил: «А так, чтобы во всем было равенство». На это священник возразил: «Если ты такого мнения, то как бы тебе понравилось, если бы ты вошел к себе в дом, в котором ты хозяин, а твой слуга захотел бы быть тебе ровней?» Крестьянин ответил: «Да, это бы мне не понравилось». Тогда священник спросил: «А почему?» Крестьянин ответил: «Потому, что этого не может быть». «А если не может быть так, как ты говоришь, то что же тогда делать?» Крестьянин ответил: «Пусть же лучше тогда остается все по-старому, когда, согласно обычаю, низший подчиняется высшему» [28] K. Höfler, Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen, I, str. 567.
. В этом диалоге наглядно и живо показано противоречие между поденщиком и зажиточным крестьянином, противоречие, наличие которого препятствовало зажиточным крестьянам решительно выступить на борьбу с феодалами. Что же касается указанных выше мыслителей, то они, несомненно, защищали именно деревенскую бедноту и выступали против ее эксплуататоров. В тех случаях, когда писатели-современники говорят о благосостоянии деревни, они имеют в виду прежде всего зажиточных крестьян.
Имущество крепостных принадлежало церковным и светским феодалам. Крестьянин пользовался этим имуществом только с соизволения феодала. Владение крестьянина было наследственным, если оно было записано на основе так называемого закупного (немецкого) права, или пожизненно, если было записано на основе так называемого чешского права. В. И. Ленин в своем определении феодализма отмечал, что одной из характерных черт этого строя является внеэкономическое принуждение. Казалось, что крепостной действительно работает на своей земле, однако он принужден был часть своего труда отдавать феодалу, владельцу этой земли, у которого всегда наготове было достаточно надсмотрщиков и слуг, чтобы заставить нерадивого крепостного выполнять его «обязанности». Обычно земля была обременена как денежным, так и натуральным чиншем. Ежегодно ко дню св. Георгия и св. Гавла крепостные обязаны были платить владельцу замка или монастырю определенную сумму и обеспечивать феодала продуктами (яйцами, птицей, зерном и т. д.). Кроме того, крепостной обязан был несколько дней в неделю нести на городской земле пешую или конную барщину.
Даже Халоупецкий вынужден был признать, что «в конце XIV века были случаи, когда барщина, которой был обязан крестьянин, доходила до пяти дней в неделю» [29] Václav Chaloupecký, Selská otázka v husitství, str. 14.
. Само собой разумеется, что вся тяжесть барщины падала прежде всего на бедняков, не имевших ни рабочего скота, ни поденщиков, которых можно было бы послать на барщину вместо себя. Мелким и безземельным крестьянам приходилось самим идти работать на поле феодала, оставляя свои крошечные участки необработанными.
К этим обычным повинностям, которые сами по себе были уже достаточно тяжелы для крепостных, прибавлялась еще так называемая «помощь» («помощью» назывались чрезвычайные повинности). Положение крестьян прекрасно характеризует пословица: «Крепостной, что верба, чем чаще ее обрубать, тем гуще она будет ветвиться» [30] Tomáš Štítný, Knížky šesterý, str. 153.
. И феодалы «обрубали» нищую бедноту, как могли. Понятно, что при расточительности феодалов им всегда недоставало денег, и панские сундуки вечно были пусты. Это побуждало феодалов прибегать ко все новым и новым поборам. Налоги, которые в конце XIV века все чаще и чаще требовали от феодалов, немедленно перекладывались ими на плечи крепостных.
Князья, что войны затевают
И бедняков тем разоряют,
Налоги на налоги громоздят,
А короли со свитою дворян
Не меньше тянут из крестьян:
Оброки с каждого взимают,
Потом налоги выжимают [31] Staročeské satiry, Desatero kázanie, ed. J. Vilikovský, str. 41.
.
Читать дальше