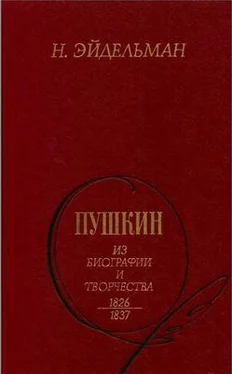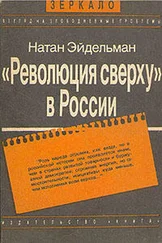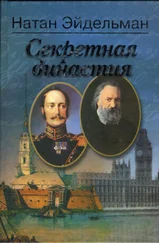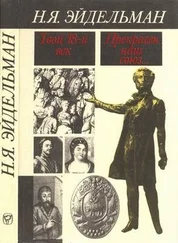Самоанализ важен и точен: «ребяческий сон души», в котором всё «очень смутно»,— но уже в этом полусне многое готово к пониманию.
Во всей тогдашней России людей, думавших так,— наперечёт.
У исследователей биографии Герцена порою рождался соблазн счесть революционные, антикрепостнические взгляды двух юношей, Герцена и Огарёва, едва ли не сложившимися в момент клятвы на Воробьёвых горах. Сам Герцен, между прочим, очень точно обрисовал степень как достигнутого, так и ещё не осмысленного к четырнадцати — пятнадцати годам: «Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело между прочим целью посадить на трон цесаревича <���Константина>, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку» [664].
«Светлая искренность», возвышенность мечты — при том, что сцена на берегу Москвы-реки «может показаться очень натянутой, очень театральной»; что «мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли» [665].
Пушкин всё это время оставался для молодых москвичей важнейшей фигурой, но преимущественно автором вольных, дерзких, запрещённых стихов. Нового, «последекабрьского» поэта знали куда меньше; к тому же вызывали недоумение его стихи, обращённые к Николаю…
Много лет спустя в «Былом и думах» и «Колоколе», особенно в дни польского восстания 1863—1864 годов, Герцен снова и снова возвращался к событиям 1830-х годов — и его воспоминания тем интересней, что они принадлежат очевидцу, современнику, одному из тогдашних девятнадцатилетних.
В 1850 году (О развитии революционных идей в России): «В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят её, не читают вовсе или читают только французские пустячки. От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращённое им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения» [666].
В 1859 году (статья «Very dangerous!!!») : «Сам Пушкин испытал, что значит взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамб бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического нёба!» [667]
В 1869 году («Былое и думы»): «Негодование…, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения» [668].
И, может быть, самое резкое (статья «1831—1863»): Белинский, «искушаемый змием немецкого любомудрия, увлёкся разумностью всего сущего <���…> Какую страшную чистоту надобно было иметь, какую самобытную независимость и бесконечную свободу, чтоб напечатать что-нибудь вроде оправдания Николая в начале сороковых годов.
Эту чистоту ошибки поняли те самые люди, которые не могли простить двух стихотворений Пушкину…» [669]
«Чистоты ошибки» в пушкинских стихах 1831 года, выходит, не было?..
«Юной Москве» содержание стихов не понравилось. Эти молодые люди ещё не очень хорошо знали — что надо делать, но имели довольно ясное мнение о том, чего делать не следует. Их не очень занимали важные тонкости, и поэтому они не стремились вникать в то обстоятельство, что стихи Пушкина всё же отличались от громких патриотических виршей какого-нибудь Рунича, что Пушкин призывал оказать «милость падшим», что в русско-польской вражде он хотел видеть «семейное дело» — спор славян между собою… Всё это молодые люди прочли, но не захотели понять.
Если отнюдь не «красный» П. А. Вяземский был недоволен стихами 1831 года, можно представить, что говорилось в аудиториях Московского университета, какие колкости по адресу петербургских одописцев отпускали на своих сходках «девятнадцатилетние нахалы». И Пушкин, наезжая во вторую столицу, это отлично почувствовал.
В 1830-м—1831-м молодость Пушкина кончилась. Немолодым прожил он ещё семь лет. Молодые люди 1831 года за это время стали менее молодыми людьми 1837-то. И он, и они едва знали друг друга, хотя им казалось, что — знают, хотя у них были общие знакомые, и юноша Герцен захаживал к тем людям, откуда Пушкин только что выходил: Чаадаев, Михаил Орлов, «Вельможа» — Николай Юсупов…
Летом 1834 года, в то самое время, когда Пушкин был взбешён вскрытием его семейных писем и пытался подать в отставку,— в это самое лето Герцен и его друзья были арестованы, а затем сосланы в Вятку, Пензу, на Кавказ. Пушкин же вряд ли о том и узнал. К удалению внутреннему прибавлялось удаление географическое. Пушкину и ссыльным почти не оставалось шансов коротко познакомиться.
Читать дальше