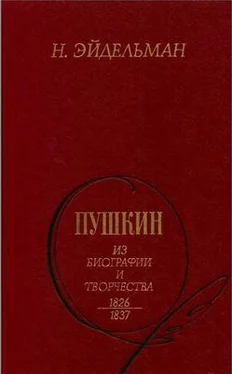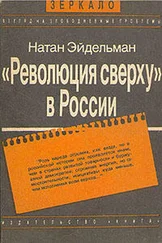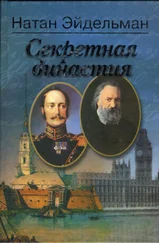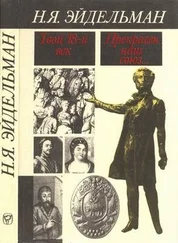Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
(Строфа XLIV)
И, конечно, неслучайно в восьмой главе поэмы дважды, на очень близком расстоянии,— автор и «толпа».
И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привёл
На шум пиров и буйных споров…
(Строфа III)
Затем — строфа XI-я. Молодость прошла:
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей…
Два состояния — гармония и разлад. «Чувства разделяя» и «не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей» (при том, следуя не за, a далеко впереди чинной толпы ).
Белинский чутко ощутил столкновение времён, огромную трудность даже для большого мастера — овладеть новой эпохой, новым поколением. Рассуждая о 1810-х годах, «времени Батюшкова», критик писал: «Его время было странное время,— время, в которое новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружески жило друг подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому, и на веру, по преданию, благоговело перед его богами» [675].
Не понимая Белинского буквально, — мы знаем, что молодой Пушкин и его друзья были чужды какого-либо благоговения,— согласимся с тем, что в 1830-х «старикам» трудновато: они чаще сердятся, молодые — реже кланяются…
Пушкин — во всё более «разреженном» воздухе.
Выход — в бегстве, в сельском одиночестве («в обитель дальную»), как Баратынский?
Или найти общий язык, сговориться с той самой хорошей московской молодёжью, о которой только что писано в «Путешествии из Москвы в Петербург»? Пожалуй, это было бы возможно, проживи Пушкин ещё несколько лет. Признаки такой возможности мы видим в том новом приближении «москвичей» к Пушкину, которое обозначилось — увы! — после гибели поэта.
Белинский возвращается к Пушкину одиннадцатью своими знаменитыми статьями. Герцен позднее найдёт, что Пушкин уж давно написал об их поколении: «Онегин <���…> как и все мы <���…>, постоянно ждал чего-то, ибо человек не так безумен, чтобы верить в длительность настоящего положения в России. Ничто не пришло, а жизнь уходила. Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом» [676].
Важнейшим событием для Белинского, Герцена и их друзей стал ряд пушкинских произведений, опубликованных после его смерти, в 1837—1841 годах [677], а также встречи с людьми пушкинского круга, людьми, причастными к 14 декабря, которые рассказывали о своём Пушкине. Неожиданное открытие — новое поколение лицеистов: «Весь курс 1845 года,— вспоминает Герцен,— ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.
Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей <���…> оставался ещё тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти» [678].
«Благословение поэта» — здесь нечто новое. 18 марта 1844 года Герцен запишет в дневник впечатления о парижских лекциях Адама Мицкевича: «Мицкевич <���…> в Петре <���…> понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним; и как же его душе поэта было не понять Пушкина!» [679]
Прекрасный комментарий, тем более ценный, что делается мыслителем, не принимающим пушкинских патриотических стихов 1831 года.
Наконец, ещё через несколько лет Герцен запишет строки, наиболее выразительно определяющие то, что поняли «москвичи» в Пушкине: «Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорблённый и полный негодования, всё же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шёл, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что» [680].
Читать дальше