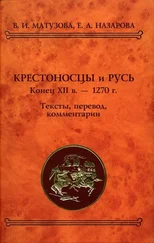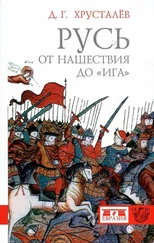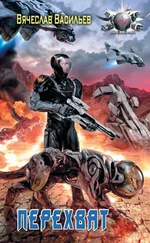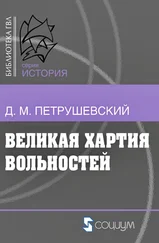Capita martarorum буквально переводится как «головка куницы» (от немецкого marte , marder , mardel — «куница, кунья шкурка») и, по общему признанию исследователей, является калькой с русского «куна» (куница, кунья шкурка — денежная единица, используемая при расчетах).
См.: Sartorius, 1830. S. 36, n. 2; Андреевский, 1855. С. 21; Gutzeit, 1887; Goetz, 1916. С. 105; Спасский, 1957. С. 24; Сквайрс, Фердинанд, 2002. С. 34.
Куна представляла собой более мелкую, чем гривна О/25 гривны), денежную единицу, которая давала название и всему собирательному понятию «деньги» (Янин, 1956. С. 38–39). С таким значением это слово было заимствовано и в немецкий язык — kunen ( cunen ), а гривна кун =марка кун ( marc kunen ). Сквайрс писала, что «в нижненемецких текстах существительное куна используется исключительно как обозначение денежной единицы, сам зверек и его шкурка называются mart(e) или marder », и «от данного существительного происходит немецкая калька со синем. Hovet , употреблявшаяся иногда в составе сложного существительного marthovede или лат. capita martarorum » (Сквайрс, Фердинанд, 2002. С. 129. Ср.: Schlüter 1911. S. 29, 126; Сквайрс, 2000. С. 437). В нашем тексте встречается как слово « kunen » ( cunen ), так и словосочетание « capita martarorum ». Причем в одном месте пункта № 5 они практически противопоставлены: «пусть им будут даны за каждый хлеб две cunen , и вместо масла 3 capita martarorum ». Выходит, что оплата волховских служащих осуществлялась как кунами в качестве некоего денежного эквивалента ( kunen, cunen, marc kunen ), так и кунами, под которыми подразумевались собственно меховые шкурки ( capita martarorum ). Этот случай особенно примечателен уже потому, что сам факт существования именно кожаных (меховых) денег на Руси в «безмонетный» период (XI–XIV вв.) нередко ставится под сомнение (Котляр, 1973. С. 155–164). Далее в тексте мы переводим « kunen ( cunen )» как куны, а « capita martarorum » — как куньи мордки.
О меховых и кожаных деньгах см.: Лучинский, 1958. С. 6–45; Свердлов, 1978; Перхавко, 2006. С. 191–199.
Гётц, ссылаясь на Бережкова, считает, что здесь имеются в виду полотенца или платки, которые «были основными статьями немецкого импорта в Россию» (Бережков, 1879. С. 152; Goetz, 1916. S. 105). Скорее всего, речь идет о неких (условленного размера) обрезах ткани, действительно служивших важным предметом торговли.
В источниках встречается написание этого слова как bracium .
Здесь выделено три категории импортируемых грузов: bona (от bonum — добро, имуществом, выгода, польза), graves (от gravis — тяжелый, тяжесть, почтенный, достойный уважения) и victualia (съестные припасы, продовольствие). Вероятно, в первом случае ( bonis ) речь идет о товарах ремесленного производства (по Бережкову: «ценный товар»). Последний случай ( victualibus ) означает продукты питания, пищевые товары (по Бережкову: «жизненные припасы»). Под «тяжелыми» (или «значительными») товарами, судя по всему, подразумевается группа, так сказать, «акцизных» товаров, то есть тех пищевых продуктов, ввоз которых «из-за моря» облагался налогом.
См.: Бережков, 1879. С. 157; Goetz, 1916. S. 106.
В Новгороде таможенная подать называлась «мыто», от чего ее сборщик — «мытник». В данном случае речь идет именно о служащем, собиравшем торговую пошлину ( teloneum ).
См.: Бережков, 1879. С. 153, 157; Goetz, 1916. S. 107, n. 1.
Буквально infra quindenam можно перевести как «ниже пятнашки», но речь, со всей очевидностью, идет о сроке платежа, который не должен превышать 15 дней. Обращает на себя внимание жесткость и необычность подобного требования. Ведь это первый случай, когда в средневековом документе обговаривается срок погашения кредиторской задолженности по оказанным услугам. Лишь в 1303 г. английский король Эдуард I выдаст привилегию, установившую подобный срок, причем это будет 20–40 дней (Goetz, 1916. S. 114–115).
Это место допускает и другой вариант перевода: «и если было решено в самой церкви». Как бы то ни было, но речь идет о праве убежища, которое хотели закрепить за своим двором иноземцы.
См.: Goetz, 1916. С. 117–118.
В таких условиях более уместным выглядит именно размещение беглеца в церкви, а не принятие решения о нем под сводами храма. Ср.: Bulmerincq, 1853.
Речь идет о судебном служащем ( schalk — preco ), курьере, исполнителе, вызывающем подсудимого в суд.
См.: Goetz, 1916. S. 119.
Здесь использовано единственное число, что позволило Андреевскому уточнить должностные полномочия этого старосты и даже назвать его тиуном, судебным приставом (Андреевский, 1855. С. 31). Текст не дает к этому оснований.
Читать дальше
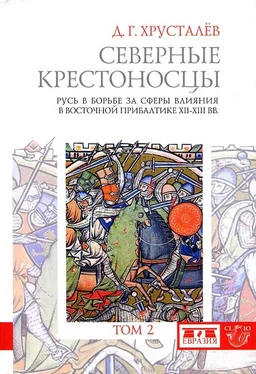
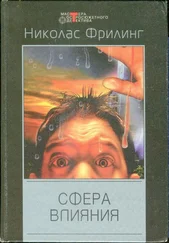
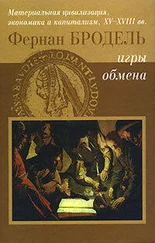


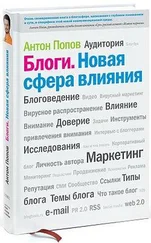
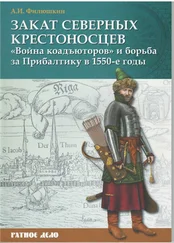
![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)