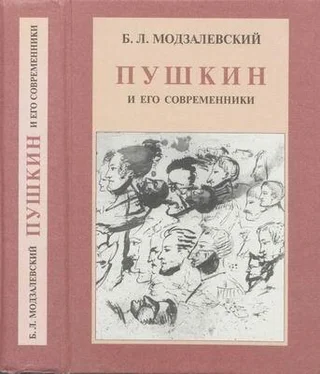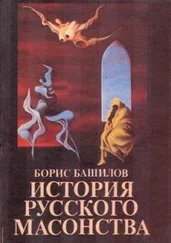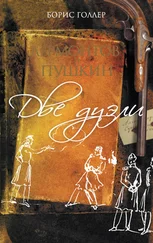Письмо своё, очень пространное, от 22 августа 1824 г., и ещё приумноженное несколькими приписками, Софья Михайловна начинает предуведомлением, что с тех пор, как она не писала подруге, с нею приключилась «тысяча вещей», что сердце её «переполнено». «Я не представляла себе, что мне придётся испытать какое-нибудь огорчение; но — ничто не вечно в этом мире — и два месяца счастия довольно редко встречаются: как же можно иметь гордость думать, что солнце будет сиять всегда, не затемнённое мрачными тучами! Однако, безрассудная, я думала так и вскоре была разочарована. Впрочем, не будем забегать вперёд, — ты впоследствии узнаешь, что именно вызывает мои жалобы. Прости эти отрывочные фразы, этот беспорядок в мыслях, дорогой друг, — я тщетно пытаюсь внести стройность в мой рассказ, — сердце у меня так переполнено, что мне трудно говорить о безразличных вещах; но ты должна знать в подробностях, как проводила я время, пока была ещё счастлива. После жалоб, которые я тебе наговорила на дядю по поводу нашей прогулки верхом, я стала лихой амазонкой; мне позволяли делать верхом по десяти вёрст вместе с Катериной Петровной, в сопровождении одного лишь конюха, — и мы проделывали это, как ничто. Я так вошла во вкус этого упражнения, что повторяла его как можно чаще; особенно в конце июля и в начале этого месяца я ездила верхом почти каждый день, так как погода нам теперь благоприятствует — у нас наконец лето». Поговорив затем об общих подругах, Салтыкова пишет, что сделала много новых знакомств, — между прочим, с некоей м-м Энгельгардт и с её шестью дочерьми, которые очень ей понравились. «Какое тесное единение в этом большом семействе! Какие невзыскательные привычки мать сумела привить своим дочерям, очень хорошо воспитанным, но вполне невинным и скромным, — что делает их очаровательными, — особенно две из них соединяют с добрыми качествами и с ангельским характером интересные личики, на которых отражается их сердечная доброта; другие не отличаются красотой, но ни про одну нельзя сказать, что она неприятна. Я провела очень хорошие минуты в их обществе. В Крашнево приезжал ещё один молодой человек, которого я была очень рада видеть, это — г. Кюхельбекер. Уже давно я хотела познакомиться с ним, но не подозревала, что могу встретить его здесь. Г. Плетнёв очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нём с величайшим интересом; я нашла, что он вовсе не преувеличивал мне его добрые качества; правда, это горячая голова, каких мало; пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, — но он так умён, так любезен, так образован, что всё в нём кажется хорошим, — даже это самое воображение; признаюсь, что то, что другие хулят, мне чрезвычайно нравится. Он любит всё, что поэтично; он желал бы, как говорит, всегда жить в Грузии, потому что эта страна поэтическая. Он парит, как выражается дядя (и я сама стала любить таких людей: я люблю только стихи, проза же кажется мне ещё более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего, и для того, чтобы жить, он вынужден быть редактором плохенького журнала под названием „Мнемозина“, который даже его друзья не могут не находить смешным, — и сочинять посредственные стихи (ты, может быть, помнишь одну вещь, под заглавием „Святополк“, в „Полярной Звезде“, — она принадлежит его перу) [324]. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо! Он хорошо знает Дельвига, Боратынского и всех этих господ. Я доставлю большое удовольствие г. Плетнёву, дав о нём весточку. К моему великому сожалению, он остался здесь только на один день».
«На другой день после его посещения, 2 августа, в 9 часов вечера, Пётр Григорьевич Каховский, двоюродный брат тётушки, молодой человек 25 лет, друг Кюхельбекера, приехал из Смоленска в Крашнево с намерением остаться здесь до сентября месяца. Тут, мой друг, наступает наиболее интересная эпоха моих приключений, и я не знаю, как продолжать, что сказать тебе? Мне приходится высказать ту же жалобу, что и один из действующих лиц романа „Agathocles“, который я теперь читаю: „Ich habe dir so viel zu sagen, so viel zu erzählen — und muss mit Schreiben, diesen armseligen Behülf, für ein volles Herz begnügen“ [325]. <���…> В тот вечер, что он приехал, я провела в обществе Каховского лишь одну минуту; на другой день я также лишь немного говорила с ним, — таким образом, мы ещё с ним не познакомились как следует, но ещё через день произошло некоторое сближение благодаря приезду трёх старых девиц Корсаковых, дальних кузин моей тётушки [326], жеманниц, кривляк, гримасниц, которых нужно видеть, чтобы иметь о них понятие. Младшая — приблизительно в том возрасте и совершенно в том же роде, как Каролина Юрио [Uriot], но ещё в тысячу раз смешнее, потому что она, в 45 лет, влюблена, делает всевозможные невероятные гримасы; все её движения, звук её голоса, её походка, её выражения — всё крайне аффектировано; вместе с тем — у неё наружность летучей мыши; ростом она — с Каролину. Читает она всегда, даже когда одна, вслух и декламируя. Старшая — тоже совершенна и единственна в своём роде: крикунья, говорит во всех тонах, как Плетнёв, когда он произносит: •„Оне поют“,• но с тою разницею, что она это делает не в шутку и во сто раз смешнее, в особенности когда она сердится, что бывает с нею очень часто. Вторая — наименее смешна, — она глупа, но добродушна. Эти-то три грации и были причиною того, что Каховский и я часто оказывались с глазу на глаз, так как мы выходили с ним в другую комнату, чтобы посмеяться: нам стоило неимоверных усилий удерживаться от смеха при них. Он очень умён и шутил на их счёт, что меня чрезвычайно забавляло, а это заставляло меня искать случая удаляться с ним из их общества. Эти частые отсутствия ни в ком не возбуждали неудовольствия, даже в тётушке, которая в этом отношении очень щепетильна, — ибо она знала предмет наших разговоров и смеялась сама от всего сердца. Корсаковы уехали после трёхдневного пребывания, и мы долго потешались на их счёт: Каховский заставлял нас много смеяться; наконец они были позабыты, и разговоры наши стали более интересными, особенно в присутствии Каховского. Ах, дорогой друг, что это за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! Сердце его чисто, как кристалл, — в нём можно легко читать, и его уже знаешь, повидав два или три раза. Он также очень образован, очень хорошо воспитан, и хотя никогда не говорит по-французски, однако знает этот язык, читает на нём, но не любит его в такой мере, как русский; это меня восхитило, когда он мне сказал об этом. Русская литература составляет его отраду; у него редкостная память, — я не могу сказать тебе, сколько стихов он мне продекламировал! и с каким изяществом, с каким чувством он их говорит! Пушкин и в особенности его „Кавказский пленник“ нравятся ему невыразимо; он знает его лично [327]и декламировал мне много стихов, которые не напечатаны и которые тот сообщал только своим друзьям. Если ты имеешь представление о Кюхельбекере по тому, что я тебе о нём рассказала, ты должна иметь понятие и о Каховском, потому что они оба — в одном и том же роде и очень между собою близки. Я знаю твой вкус и уверена поэтому, что ты страшно увлеклась бы Петром К<���аховским>, если бы его увидела. Он говорит, что ему мало вселенной, •что ему всё тесно и что он уже был влюблён с семи лет: теперь ты его знаешь•».
Читать дальше