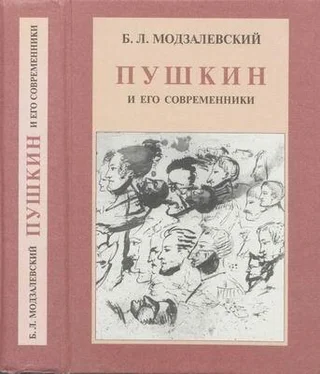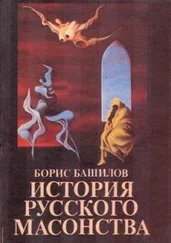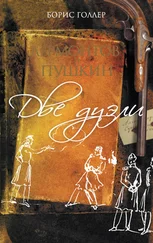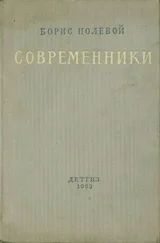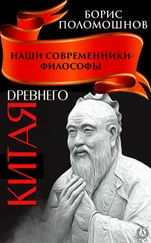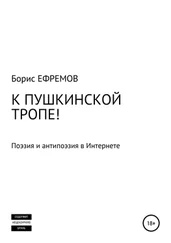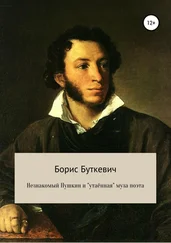Последняя помета чрезвычайно любопытна своим внутренним противоречием: 4 сентября 1826 г. Пушкин был вызван в Москву, извещённый о «Высочайшем разрешении по всеподданнейшему его прошению», — просил же он о разрешении выехать в Москву, Петербург или за границу для лечения; кроме того, шеф жандармов Бенкендорф в первом же письме своём к Пушкину, написанном 30 сентября, извещал поэта в ответ на его недоумения, что ему предоставляется полная свобода приезжать в столицу, — каждый раз лишь с особого разрешения. Пушкин так и понял себя свободным : из Москвы он совершил поездку в Михайловское и во Псков, затем опять в Москву: он чувствовал себя легко и радостно:
В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни, —
писал он в своих известных «Стансах» Николаю; между тем Николай I, как теперь оказывается, даже после свидания с Пушкиным и откровенной беседы с ним, не снял своих, запоздавших, подозрений с чистого сердцем поэта и в резолюции на столь поздно дошедшее к нему прошение Н. О. Пушкиной о помиловании раскаивающегося сына положил помету, свидетельствующую о том, что соизволения на дарование прощения поэту он в своём сердце найти не смог…
Так в двойственном лике, прощённого, обласканного и осыпанного комплиментами писателя, а с другой стороны — вечно подозреваемого, окружённого недоверием и слежкой человека, и вошёл Пушкин во вторую половину своей творческой жизни. Эта двойственность, часто и досадно искажая перед нами светлое лицо нашего поэта, заставляет нас всегда помнить о тягости пройденного им жизненного пути; с тем большими любовью и сочувствием к поэту все мы должны работать для увековечения его памяти.
Роман декабриста Каховского [249]
Личность Каховского и его судьба — исключительная по яркости романтическая страница в декабрьской эпопее 1825 г.: человек совсем ещё молодой, не отличавшийся ни особенной знатностью породы, ни богатством, ни родственными или иными связями, ни влиянием среди того общества, к которому примкнул более или менее случайно, — одним словом, человек, ничем, казалось, не выделившийся из толпы сотен и сотен таких же, как он, «отставных поручиков», — Каховский, в силу роковым для него образом сложившихся обстоятельств, попал в число пяти наиболее выдающихся декабристов, поставленных «вне разрядов» и погибших на эшафоте в памятный день 13 июля 1826 г. … За что, собственно, Каховский подвергся такой жестокой участи, чем именно дал он повод к произнесению смертного приговора над своей молодой жизнью? Если мы знаем теперь, что было поставлено Каховскому в вину, чем именно выделился он из сотен других осуждённых и как формулирована была его виновность в приговоре Верховного уголовного суда, — то мы всё-таки не были в состоянии до сих пор хоть отчасти раскрыть завесу, за которою скрывался его человеческий облик: правда, по нескольким его письмам к Николаю I, по смелым показаниям, данным Следственной комиссии, и по тому, что говорили о нём в Комиссии его товарищи по несчастию, мы могли догадываться, что Каховский был человек исключительной пылкости темперамента, восторженный энтузиаст по характеру, пламенно преданный чувству любви к свободе, самоотверженный искатель правды и справедливости… Но нам не было известно в подробностях ни одного сколько-нибудь достоверного случая из его ранней, краткой, но полной превратностей жизни; мы знали лишь, что девятнадцатилетним юношей он, будучи гвардейским юнкером, подвергся, за какую-то небольшую провинность, разжалованию в рядовые и переводу в армейский полк и что лишь через два года добился производства в кирасирские корнеты, но, прослужив офицером только около двух лет, вышел в отставку и поехал лечиться на Кавказ, а потом путешествовал за границей… Но все эти сведения были неопределённы, — как бы в тумане, без ярких очерков, без сути дела и без каких-либо подробностей: ни в чём состояли его полковые провинности и «шалости», ни почему он ездил лечиться, ни где путешествовал, — мы ничего этого не знаем. Прав был поэтому П. Е. Щёголев, подчёркивая то обстоятельство, что даже товарищи-декабристы говорят о Каховском всего одну-две незначительные фразы, что он — какой-то чужой, неизвестный им человек, что он, несмотря на свою смертную запечатленность, чужд им не только нравственно, но даже, так сказать, и физически — до смешного: они не знают точно даже его имени, они путаются в нём и ошибаются…
Читать дальше