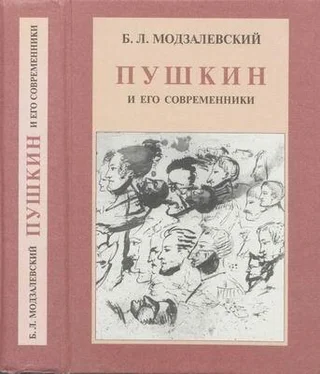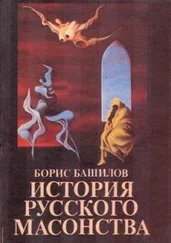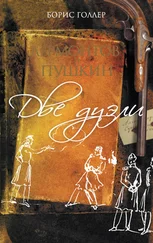Что же, в конце концов, послужило ближайшим поводом к ссылке Пушкина в деревню? Мы думаем, что совокупность четырёх обстоятельств: во-первых — подача известного доноса генерала Скобелева на Пушкина, относящегося ко второй половине января 1824 г., во-вторых, перехваченное почтою письмо поэта к одному из его друзей (по всей вероятности, к князю П. А. Вяземскому), датируемое первой половиной марта 1824 г. и содержавшее высказанные в непринуждённой форме суждения об атеизме, который поэт, по его словам, изучал у некоего англичанина, «глухого философа, единственного умного афея», им встреченного [241]; в-третьих, опасения Воронцова, чтобы в Петербурге не осудили его за близость к Пушкину, — и, наконец, — вероятно, лишь как ближайший повод или основание, — недовольство и оскорбительное для Пушкина раздражение Воронцова, эпиграммы поэта, его ухаживание за женой начальника, наговоры и сплетни и т. п. К сожалению, точного представления о том, в какой последовательности развёртывались события, у нас нет и, несмотря на обилие прежних и на несколько новых найденных нами данных в современных письмах, вряд ли когда-нибудь будет.
По поводу упомянутого в криминальном письме Пушкина об атеизме «англичанина, глухого философа», у которого поэт брал уроки безбожия, мы можем сказать также несколько слов на основании тех же писем Воронцова к Лонгинову; они будут небезынтересны ввиду той роли, которую, хоть и неожиданно для себя, сыграл этот англичанин в деле высылки Пушкина из Одессы. По свидетельству одесского знакомца Пушкина и правителя походной канцелярии Воронцова А. И. Левшина, этот англичанин звался Гунчисон и был доктором; есть и другое указание, будто этот англичанин-атеист был профессор Ришельевского лицея в Одессе Вольсей, но это опровергается указанием на то, что Вольсей покинул Одессу гораздо ранее приезда туда Воронцовых; доктор же Гутчинсон (а не Гунчисон, как называет его Левшин) действительно жил в 1824 г. у Воронцовых в Одессе, не первый уже год состоя у них домашним детским врачом. Вот что писал М. С. Воронцов H. М. Лонгинову из Парижа 21 октября (2 ноября) 1821 г.:
«С нами живёт один doktor Hutchinson, которого рекомендовали нам чрезвычайно в Лондоне; он с нами поедет и в Россию; человек прекрасной, учёный, хорошо воспитанный, имел уже довольно практики и, что особенно для нас выгодно, был при Детском Гошпитале в Лондоне, в коем в полтора года лечил до 2000 детей [242]. Один маленький недостаток в нём, что немного глух, но, привыкнув к голосу, ето почти неприметно» [243].
Из писем графа и графини Воронцовых в ноябре 1824 г. видно, что в это время доктор Гутчинсон (они называют его в других местах Гутчисоном) продолжал жить в их семействе, ухаживая за детьми и наблюдая за их боннами; 17 ноября Воронцов писал Лонгинову, что он с женой получил из Лондона «хорошее известие», что «прекрасной человек doctor Lee найден вместо почтенного нашего доктора Гутчисона, и что он скоро сюда будет» [244]. Добавим к этому, что, без сомнения, именно Гутчинсона имеет в виду Вигель, когда в «Записках» рассказывает о своём приезде в Одессу в середине мая 1824 г., что он нашёл Воронцовых в большой печали из-за болезни их четырёхлетней единственной дочери Александры, премилой девочки, причём «лысый доктор, особенно для неё из Англии выписанный, не ручался за её жизнь…» [245].
Дальнейшая судьба глухого и лысого доктора-философа нам в точности не известна; есть лишь указание на то, что в конце 1820-х гг. Гутчинсон сделался в Лондоне ревностным пастором одной из англиканских церквей [246].
Сообщим ещё небольшой эпизод, касающийся ссыльной жизни Пушкина в Михайловском, остававшийся неизвестным до настоящего времени (мы обязаны им А. А. Сиверсу): эпизод этот относится к хлопотам родных поэта об освобождении его из невольного пребывания в Михайловском.
Как известно, летом 1825 г. мать поэта, по совету Жуковского и Карамзина, обратилась с просьбой к императору Александру I о помиловании сына; результат просьбы этой был неожиданный: вместо разрешения отправиться для лечения аневризма за границу, Пушкину позволено было съездить в ближайший губернский город, а именно — во Псков, где и подвергнуться операции, — у местного, как саркастически писал Пушкин, коновала или ветеринара. Со смертью Александра I у Пушкина возродилась надежда на освобождение, и он дважды, в марте и в мае 1826 г., делал попытки обратиться к новому императору. Просьба его от 11 мая 1826 г. о разрешении покинуть деревню и ехать для лечения в Москву, Петербург или чужие края получила надлежащее движение, причём в пушкинские места был послан особый шпион, коллежский советник Бошняк, который в июле 1826 г. объехал окрестности Михайловского и Святых Гор, собрал о Пушкине сведения, — к счастию, оказавшиеся для него благоприятными, — и послал их «по команде» [247]. Результатом расследования было решение вызвать Пушкина в Москву, к вновь принявшему коронование императору Николаю, и известное представление поэта государю в кремлёвском дворце. Но теперь оказывается, что почти одновременно с этим новые хлопоты о помиловании сына предприняла и мать поэта, Н. О. Пушкина: проводя лето 1826 г., как и предыдущие, в Ревеле, на морских купаниях, с мужем и дочерью, она обратилась к молодому императору Николаю I с прошением, в котором изъясняла, что «ветреные поступки, по молодости, вовлекли сына её в нещастие заслужить гнев покойного государя, и он третий год живёт в деревне, страдая аневризмом без всякой помощи, — но что ныне, сознавая ошибки свои, он желает загладить оные, а она, как мать, просит обратить внимание на сына её, даровав ему прощение». Просьба Пушкиной попала 31 августа 1826 г., как адресованная, как говорилось, на высочайшее имя, в Комиссию прошений; но лишь 4 января 1827 г., — вероятно из-за коронационных и иных подобных хлопот, она была заслушана в заседании Комиссии прошений членами её В. С. Ланским, И. А. Соколовым, А. В. Казадаевым и H. М. Лонгиновым (тем самым, с которым в 1824 г. переписывался о Пушкине Воронцов), причём постановлено было «довести прошение Пушкиной до высочайшего его императорского величества сведения». Это было сделано 30 января 1827 г., причём прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе. «Надежда Пушкина, — читаем здесь, — изъясняя, что сын её имел нещастие навлечь на себя гнев покойного государя императора, — почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год одержим болезнию и без всякой помощи, но ныне, усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, — просит о возвращении его к семейству и о даровании прощения». Прочтя подлинный доклад Комиссии, Николай I поставил на нём условный карандашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика, статс-секретаря Лонгинова, сделана была на докладе помета: «Высочайшего соизволения не последовало. 30 Генваря 1827 г.» [248].
Читать дальше