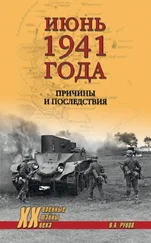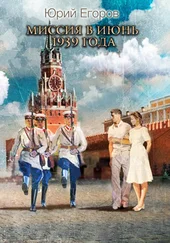DGFP. Vol. VIII. P. 45; см. также: СССР-Германия. 1939- 1941. С. 87.
DGFP. Vol. VIII. P. 56.
Ibid; СССР-Германия.... С. 87.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 217. Л. 41-42.
Там же. Д. 218. Л. 32.
Там же. Ф. 17. Оп. 121. Д. 15. Л. 1-16, 20-21.
Там же.
Коллонтай A.M. Указ. соч. С. 457, 610.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 91-92.
DGFP. Vol. VIII. P. 69.
Ibid.
49Ibid. C. 70.
Ibid. C. 76-77.
Ibid. C. 77.
Как уже отмечалось, именно в таком духе были даны инструкции советским послам за рубежом, которые должны были убеждать западных деятелей, что своими действиями Москва стремится противодействовать германским агрессивным намерениям. Такое объяснение давали И.М. Майский в Лондоне. Я.З. Суриц в Париже, A.M. Кол- лонтай в Стокгольме и т.д.
DGFP. Vol. VIII. P. 95.
Ibid.
Ibid. С. 96.
Ibid.
Ibid.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 98; DGFP. Vol. VIII. P. 97.
См.: Madajczyk Cz. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 1—2. Warszawa, 1970; Григорьянц Г.Ю. Оккупационная политика фашистской Германии в Польше (1939—1945). М., 1979; Лебедева Н.С. Указ. соч. С. 190.
ДВП: Т. XXII. Кн. 2. С.101.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2128. Л. 52-53.
Там же. Л. 46.
Лебедева Н.С. Указ. соч. С. 189.
РГВИА. Ф. 35084. On. 1. Д. 5. Л. 57-58.
ГАРФ. Ф. 9479. On. 1. Д. 61. Л. 34-39.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2128. Л. 100.
Катынь. Преступление против человечества. М., 1999. С. 371-392, 515-603.
DGFP. Vol. VIII. P. 104.
Ibid. P. 105.
Ibid. P. 109.
Ibid.
Ibid. P. 110.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 121.
См.: Duraczynski E. Polska w polityce Moskwy. Latem 1939. Krakow, 1994.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 122.
Там же. С. 128.
Ministere des Affaires Etrangeres. Documents diplomatiques. Frangais. Carton 619. Dossier 16. N 1018. P. 193.
Ibid. P. 46.
Ibid. P. 50.
Ibid. P. 52.
Ibid. P. 57.
Ibid. P. 10-18, 195.
Ibid. P. 197.
Ibid. P. 199.
Ibid. P. 206.
Ibid.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 109 - 110.
Там же. С. 118-119.
Publlic Records Office. FO. 371/23103. P. 131.
Ibid. P. 132.
Ibid. P. 200.
Ibid. P. 203.
Ibid. P. 232.
Ibid.
Ibid. P. 249.
Ibid. P. 250.
ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 108-109.
Там же. С. 122-123.
Там же. С. 124.
Там же. С. 145.
Там же. С. 124-125.
Там же. С. 132.
Речь идет о коммюнике в связи с вводом советских войск в Польшу и при установлении демаркационной линии (ДВП. Т. XXII. Кн. 2. С. 130).
Там же. С. 131-132.
Там же. С. 605.
Там же. С. 143-144.
98Ministere des Affaires Etrangeres. Documents diplomatiques frangais. Direction des affaires Politiques et Commerciales. Carton 619. Dossier 16. N 1018. P. 208-214.
"Public Records Office. F.O. 371/23109. 1939. P. 38. 100Ibid. P. 38.
Ibid. P. 43. Ю 2Ibid.
i° 3Bce эти события подробно описаны польскими историками. См.: Duraczynski Я.Op. cit. Bloch С. Z zagadnieen strategii polityci gene- rala Wladislawa Sikorskiego w okresie II wojny swiatowej Wladslaw Sikorski-Ignacy Paderewski. Lublin, 1988. S. 40-41.
Москва-Прибалтика. Сентябрь-октябрь 1939 года
О
дновременно с акцией в Польше советские лидеры приступили к реализации своих планов, относящихся к Прибалтике[1]. В отличие от Польши, где СССР и Германия действовали одновременно и речь шла о стране, терпящей поражение и фактически перестающей существовать, Прибалтийские государства были независимыми, суверенными, сохраняя все международные атрибуты.
В конце августа — начале сентября 1939 г. Москве предстояло определить конечную цель и промежуточные решения в отношении этого региона, реакцию Германии и бывших советских партнеров по переговорам летом 1939 г.
В течение многих лет советское руководство испытывало недоверие к политике стран Прибалтики, обвиняя их в антисоветизме, в тесных связях с Германией и странами англо-французской коалиции. Уже упоминавшийся синдром антисоветского "санитарного кордона" включал в себя помимо Польши и эти страны. В таком же контексте в Москве оценивали и соглашение о так называемой балтийской Антанте.
Прибалтийский вопрос постоянно присутствовал и на международном уровне, на переговорах с Англией и Францией летом 1939 г. и с Германией накануне подписания советско-германского договора. В подходе к его решению после заключения договора с Германией советские лидеры учитывали разные факторы. Во-первых, это были старые воспоминания о тех временах, когда прибалтийские территории входили в состав Российской империи. Они имели важное стратегическое значение, обеспечивая России выход к Балтийскому морю, к торговым путям и коммуникациям. Признав в 1920—1921 гг. независимость Латвии, Эстонии и Литвы, Москва не прекращала попыток сохранять здесь свое влияние, но в 20 —30-е годы они успеха не имели. Режимы, господствовавшие в этих странах, были враждебны Советскому Союзу в политическом, идеологическом и военно-стратегическом планах. Они имели соглашения с ведущими странами Запада, находясь в том числе и в орбите германского влияния. Вместе с тем понимание необходимости поддерживать отношения со своим мощным соседом заставляло их лидеров быть осторожными и не переходить грани недружелюбного в целом отношения к Советскому Союзу.
Читать дальше
![Александр Чубарьян Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года] обложка книги](/books/404449/aleksandr-chubaryan-kanun-tragedii-stalin-i-mezhdunarodnyj-krizis-sentyabr-1939-iyun-1941-goda-cover.webp)
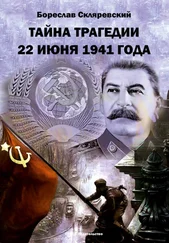
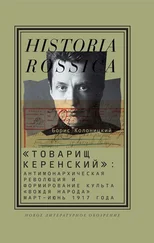

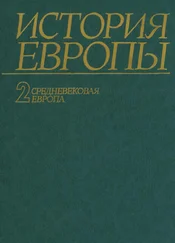

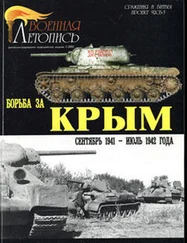
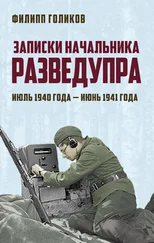
![Коллектив авторов - Повседневность террора - Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/420664/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda-thumb.webp)