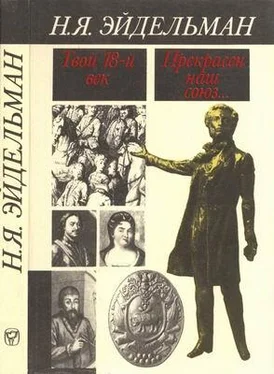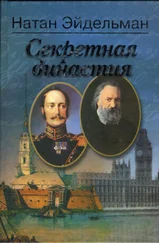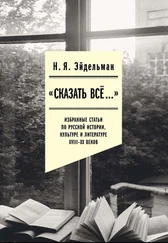Несколько раз «№ 13» чуть-чуть не открылся «№ 14-му»…
«Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Николая Ивановича Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между прочим были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берёт меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! „Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле“,— шепнул он мне на ухо и прошёл дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.
„Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашёл сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!“
Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно.
Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами?»
Даже мирный лицеист Маслов (уважительно прозванный «Карамзиным») вовлечён в вихрь декабризма, участвует (подозревая о том или нет — неважно) в легальных совещаниях нелегального союза…
А Пущин, перечисляя в своих воспоминаниях различные дерзкие, неосторожные поступки друга, замечает:
«Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своём быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла ещё пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я всё это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза…
Круг знакомства нашего был совершенно разный.
После этого мы как-то не часто виделись. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом манёвры и другие служебные занятия увлекли меня из Петербурга».
Отметим верность и в то же время — известную односторонность, поверхностность суждений Пущина: то, что он считает «кружением в большом свете», было ведь для Пушкина серьёзной литературной школой — участие в литературном обществе «Арзамас», знакомство с лучшими русскими литераторами. Поэт сам бросит упрёк одному из лицейских за удаление от своих:
Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящий наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг…
Это начало третьего «Послания к князю Горчакову», через два года после Лицея. Очевидно, в ту пору были встречи, разговоры, когда Горчаков поучал Пушкина («Ты мне велишь…»).
Пушкин же не слушается и, наоборот, зовёт собеседника назад, в прошлое, к лицейским выходкам и забавам:
И признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья…
Повеса — это ведь прошлое Горчакова (пять лет назад его обозвали «сиятельный повеса»).
…на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит [59] Хариты — в греческой мифологии грации, воплощение красоты и прелести.
любовник своевольный.
Пять лет назад Горчаков был «мой друг» («Что должен я, скажи, сейчас желать от чиста сердца другу?»), теперь же ещё неизвестно — он вне круга «моих друзей», ему только предлагается тот круг умножить. Амур, хариты ещё связывают их, но вельможи разделяют.
1819, декабря 12-го князь Александр Михайлович Горчаков пожалован в звание камер-юнкера — первый придворный чин.
Александра Сергеевича Пушкина пожалуют в камер-юнкеры «1833, декабря 29-го», и он найдёт этот чин неподходящим, смешным для тридцатичетырёхлетнего поэта. Однако для Горчакова, на двадцать втором году жизни, камер-юнкерство настолько высокая ступень, что министр иностранных дел канцлер Нессельроде сперва воспротивился: «Молодой человек уже метит на моё место». Ещё тридцать семь лет был канцлером Нессельроде, и сменит его именно Горчаков; однако в 1819-м юному князю, кажется, крепко пришлось нажать на министра через влиятельных ходатаев. Причём честолюбие вчерашнего лицеиста так разгорелось, что он кладёт в карман яд и, если ему откажут в месте — собирается умереть…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу