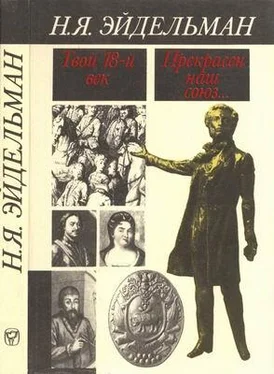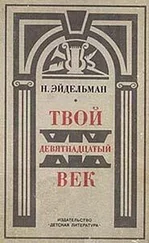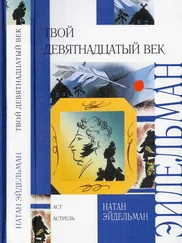Не будет у обоих — ни у Дельвига, ни у Пушкина — державинской старости. Десять лет спустя Пушкин задумается о своём Ленском:
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рождён;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень…
Но пока, в 1815 году, после кратких мгновений грусти у юных лицейских стихотворцев снова ощущение неизбежного счастья, молодой удачи.
И пишутся эпиграммы на чрезмерный аппетит Данзаса…
И вдруг все кидаются на лёд, «окрылив железом ноги» (выражение «воспитанника Пушкина»).
А Яковлев уже не просто паяс, а «паяс 200 номеров», что означает его умение изобразить 200 различных фигур (то есть лиц, зверей, ситуаций): сохранился составленный Матюшкиным список этих фигур, среди которых:
1. Граф Разумовский.
2. Директор Малиновский.
3. Март. Пилецкий.
4. Фролов.
5. Будри.
6. Гауеншильд.
7. Кошанский.
8. Галич
и другие наставники, служители — всего 40 человек.
Затем —
42. Пушкин.
43. Гревениц.
44. Дельвиг.
45. Яковлев (младший брат Паяса).
46. Есаков.
47. Кюхельбекер.
Кроме того, Яковлев изображал всё и всех:
77. Чухонская \
78. Персидская / песни.
87. Стадо.
88. Индейский петух.
89. Черепаха.
92. Двойная харя.
93. Медведи-италиянцы.
94. Их проводники.
97. Поросёнок.
98. Самовар.
124. Обманули дурачка.
131. Суворов.
147. Родня Гауеншильда.
161. Сын отечества (журнал!).
Под номером 129 мемуарист Матюшкин просит разрешения «пропустить имя»: мы понимаем — сам Александр I!
И кто же догадается в ту пору, что шутливейшая эпитафия — акростих Николаю Ржевскому (вероятно, сочинение Илличевского) — это предсказание первой лицейской смерти:
Родясь как всякий человек,
Жизнь отдал праздности, труда как зла страшился,
Ел с утра до ночи, под вечер спать ложился;
Встав, снова ел да пил, и так провёл весь век.
Счастливец! на себя он злобы не навлек;
Кто, впрочем, из людей был вовсе без порока?
И он писал стихи, к несчастию, без прока.
И разве Пушкин не написал незадолго до этого сам себе:
Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою,
С любовью, леностью провёл весёлый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.
Смерть казалась очень далёкой, лёгкой, нереальной, не то что любовь, близкая и мучительная…
«29 ноября, 1815
Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — её не видно было! Наконец, я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с ней на лестнице — сладкая минута!..
Он пел любовь, но был печален глас,
Увы, он знал любви одну лишь муку!
(Жуковский)
Как она мила была! как чёрное платье пристало к милой Бакуниной!
Но я не видел её 18 часов — ах! какое положенье, какая мука!
Но я был счастлив 5 минут».
Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз.
Как мы впервой все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ…
«Все трое» — это Пущин, Пушкин, Малиновский. О любви они все давно пишут, толкуют, хвастают и мечтают. Горчакову только что написано послание: «знак», эмблема, подходящая другу-красавцу,— стрела Амура или Эрота — Любовь.
Что должен я, скажи, сейчас
Желать от чиста сердца другу?
Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу,
Или богатства, громких дней,
Крестов, алмазных звёзд, честей?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провёл меж Вакха и Амура!
Ещё два года назад в пушкинских стихах возникает некая Наталья, Наташа, крепостная актриса из царскосельского театра графа Варфоломея Толстого.
Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь — и я влюблён!
. . . . . . . . . . . . . . .
Так, Наталья! признаюся,
Я тобою полонён…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу