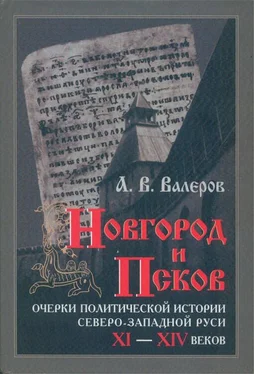Действительно, политические мотивы взаимного недовольства Новгорода и Пскова в 1307 г. представляются преимущественными. Считаем возможным связывать новгородско-псковские противоречия в начале великокняжеского правления Михаила Ярославича Тверского с разгоравшейся борьбой между Москвой и Тверью за лидерство в русских землях. Новгородцы, хотя и вынуждены были принять у себя Михаила, все же «при первой же удобной возможности намеревались избавиться» от него [906]. Неприязнь Новгорода по отношению к тверскому князю — факт, не вызывающий сомнений у исследователей [907]. Подтверждением тому служит летописное сообщение о том, что уже в 1312 г. «заратися князь Михаило к Новугороду и наместникы своя выведе, не пустя обилья в Новьгород, а Торжекъ зая и Бежичи и всю волость» [908]. В дальнейшем военные столкновения между Новгородом и Тверью происходили в 1314 г., 1315 г., 1316 г., 1318 г. [909] По всей видимости, территориальные споры с Тверью способствовали тому, что Новгородская земля изначально заняла жесткую антитверскую позицию и ориентировалась на союз с Москвой и московским князем Юрием Даниловичем, хотя явное выступление Новгорода на стороне Москвы против Твери впервые отмечено летописью только под 1314 г. [910] Однако политика Юрия Даниловича находила очевидное сочувствие у новгородцев.
В отличие от Новгорода, Псков, наоборот, в течение всего первого десятилетия великокняжения Михаила Ярославича находился в тесном контакте с Тверью через тверского князя. Именно Михаил разрешил конфликт псковичей с прежним великокняжеским наместником Федором Михайловичем Белозерским, присланным еще Андреем Александровичем Городецким. Из-под руки того же Михаила Ярославича Псков принял в качестве наместников сначала Ивана Федоровича (до 1310 г.), а затем (в 1313 г.) Бориса Давыдовича, князей галицко-дмитровской ветви, находившихся, как можно полагать, на службе у представителей тверского княжеского дома. Не сомневаемся, что все это говорит в пользу предположения о псковско-тверском сближении в начале великокняжеского правления Михаила Ярославича.
Таким образом, очевидно несовпадение позиций Пскова и Новгорода по отношению к начавшейся борьбе между Москвой и Тверью за политическое преобладание в северо-восточной Руси. Вполне возможно, что и «немирье» псковичей с новгородским владыкой Феоктистом (а значит — с новгородцами) в 1307 г. могло быть связано с московско-тверскими столкновениями. Это тем более вероятно, если учесть, что в том же 1307 г. произошел военный конфликт между Москвой и Тверью. Как явствует из приписки к псковскому Апостолу 1307 г., сделанной писцом Домидом, «сего же лета бысть бои на Руськои земли, Михаилъ с Юрьемъ о княженье Новгородьское» [911]. Война Москвы с Тверью, вызванная борьбой за Новгород, вполне могла способствовать обострению новгородско-псковских отношений, принимая во внимание промосковскую позицию Новгорода и протверскую — Пскова.
Ориентация Пскова на Тверь, как кажется, имела место вплоть до 1314 г. Скорее всего, проводником такой политики было политическое руководство города во главе с посадником Борисом и его преемниками. Борис упомянут рядом с наместником Михаила Тверского в Пскове — князем Иваном Федоровичем [912]. После смерти в 1312 г. Бориса, при новом посаднике, чье имя нам неизвестно, в Псков въехал другой наместник Михаила Ярославича — князь Борис Давыдович. До каких пор он находился в Псковской земле, неизвестно, но можно предположить, что его наместничество закончилось зимой 1314/1315 гг. В 1314 г. новгородцы с помощью князя Федора Ржевского, присланного от Юрия Даниловича из Москвы, «изъима наместникы Михаиловы», воспользовавшись отсутствием Михаила Ярославича, уехавшего в Орду, заключили мир с его сыном Дмитрием Грозные Очи, попытавшимся, но не сумевшим организовать поход на Новгород, и «послаша по князя Юрья на Москву» [913]. Очередной московско-тверской конфликт, в котором активно участвовали новгородцы, завершился временной победой противников тверского князя. Но, как представляется, со стороны Твери последовали ответные меры. Летопись под 1314 г. сообщает, что «тои же зимы хлебъ бяше дорогъ в Новегороде» [914]. По всей видимости, произошло то же, что и двумя годами раньше, когда Михаил Ярославич «не пустя обилья в Новьгород» [915]. Считаем, что в 1314 г. тверичи перекрыли пути подвоза в новгородские земли низовского хлеба. Это не могло не отразиться на ситуации во всем северо-западном регионе Руси. Псковские летописи под 1314 г. повествуют, что «бысть драгость люта, по пяти гривенъ зобница; и тогда бяше притужно вельми людемъ»; и хотя говорится, что «изби мраз вся жита», но при этом указывается, что «бяше же та драгость много время» [916]. Безусловно, продолжительной нехватки продовольствия в Пскове можно было избежать, если бы хлеб доставлялся из Низовской земли. Но тверичи, как считаем, «не пустя обилья». Ситуация во Пскове обострилась до предела [917]. По свидетельству новгородского летописца, «въ Пльскове почали бяху грабити недобрии людие села и дворы в городе и клети на городе, и избиша ихъ Пльсковичи съ 50 человекъ» [918]. В такой сложной обстановке прочность власти и популярность наместников тверских князей (а это мог быть и князь Борис Давыдович) в Пскове, вероятно, сильно пошатнулись. Вряд ли они остались в городе. Видя перед собой пример новгородцев, изгнавших наместников Михаила Ярославича, псковичи тоже могли «показать путь» Борису или его преемнику. В этом случае у Пскова появлялась удобная возможность избавиться от великокняжеской зависимости в целом.
Читать дальше