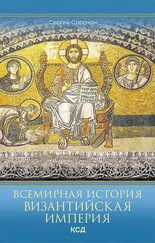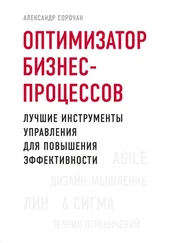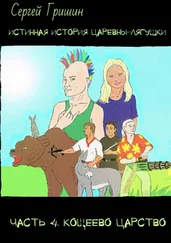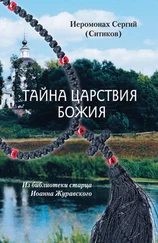Даже империя Петра Великого, при всех ее прозападных ориентирах, не отвергала основополагающего учения о Православном Царстве и его главе-монархе, очевидно, инстинктивно чувствуя, что как прежде Запад ненавидел Византию, так теперь он ненавидит, презирает Православную Русь. Правда, Петр I больше ориентировался на наследие не столько Византии, сколько Первого Рима, отчего модернизировал византизм, отменил Патриархат, ввел в том же 1700 г. юлианский календарь, стал именовать новую столицу России «градом Св. Петра», а в 1721 г. вместо ставшего уже привычным титула царя принял титул императора.
Однако следует учитывать, что русские монархи ориентировались во многом не на Византию или Запад, а на политические традиции восточных деспотий вроде монгольской Орды. Да, Россия переняла у Византии саму идею самодержавия, но в России считали сакральной личность царя, тогда как в Ромейском царстве таковой являлась сама монархическая власть, царский трон как таковой, но не государь, восседавший на нем. На Руси в эпоху Московского царства не было понятия верховенства закона, как в Византии. Ее светская власть, куда в большей мере, чем в Византии, узурпировала сакральные функции, подчинила Церковь, хотя и там, и там Церковь была государственной, а ее автономия — слабой. Эллинизм не привился в русском христианстве, как это случилось в Византии, где образование всегда оставалось светским.
И все же, при всех оговорках, царская Россия надолго унаследовала стойкие архетипы, православное духовное наследие и моральный престиж Ромейского царства, его традиции, веру, идеалы, культ монарха, религиозное отношение к правителю, имперские идеи всеединства, идеи универсальной государственности, которые завладели страной на подсознательном уровне. Замечательный русский историк Василий Осипович Ключевский мудро заметил по этому поводу: «Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Источником этого недостатка было одно — излишество самого влияния». Действительно, именно отсюда, из этих корней проистекает роднящее русских с ромеями преклонение перед властью с желанием при всяком удобном случае напакостить этой власти, а порой выплеснуться свирепым самосудом толпы, стихийным бунтом «бессмысленным и беспощадным», после которого то же государство вполне по-византийски жестоко расправлялось с бунтовщиками. Отсюда же проистекают и встречающиеся порой гипертрофированные апология, почитание, прославление Византии, доходящие до огульного отрицания всего западного, демократического, либерального, и еще более — придуманные мифы о мессианской преемственности Ромейского царства с современной Россией, ставшие особенно навязчивыми после распада СССР.
Впрочем, не одна Россия оставалась приютом византийской веры и культуры. У греков сохранились такие укрепленные древнейшие монастыри как Св. Екатерины на Синае или Великая Лавра Св. Саввы в Палестине. Наконец, они нашли прибежище и в могущественных монастырях, а также в скитах и келиях Афона на удивительно живописных скалистых склонах Агион Орос — Святой Горы, расположенной на одном из полуостровов приморской гористой Халкидики в Македонии, и тем самым открыли новую страницу византийской культуры, которая еще многие столетия духовно питала все православные народы. Афону, этой своеобразной монашеской республике, уже с 1312 г. находившуюся под юрисдикцией Константинопольского Вселенского патриарха, удалось убедить турецкого султана признать часть своих владений как неотчуждаемую собственность. Благодаря этому было обеспечено выживание Святой Горы. Она получила особое, международное значение для тех, кто оказался под османским игом. Ее многочисленные сохранившиеся библиотеки стали источником литературы. Православные греки, грузины, сербы, болгары видели в Афоне символ грядущего освобождения. В тяжелых условиях мусульманского владычества они получали оттуда все необходимое для поддержания христианского благочестия — священнослужителей, духовных учителей, книги, иконы, святые реликвии. На Афон посылали угнетенные народы и своих лучших сынов для усвоения знаний, подпитывавших и укреплявших веру и культуру. Любой искавший здесь уединения, если только он не был женщиной, мог рассчитывать по крайней мере на три дня бесплатного гостеприимства.
Наряду с греческими обителями (Великая Лавра, Ватопед, Пантократор, Дионисиат, Ставроникита и др.) на афонской земле стояли грузинский монастырь — Ивирон, сербский — Хиландар, болгарский — Зограф. Источником духовности служил Афон и для Руси. На Святой Горе она тоже имела свой большой монастырь — Русика (он же — Св. Пантелеимона) и несколько скитов, где всегда находилось немало искателей духовности. Возвращаясь на родину, они привозили с собой лучшие традиции византийской культуры. Тесные контакты Православной Церкви с Афоном сохранялись вплоть до начала XX в. и активно возрождаются ныне. Над этим автономным сообществом монастырей — островком византийского мира — все еще развевается византийский флаг с орлом. Устроением афонской общины руководил и ныне руководит Священный Кинот, который находится в Кареи, административном центре Афона. В Кинот входят представители всех двух десятков афонских монастырей, а председательствует в нем игумен Великой Лавры. Кроме монастырей здесь насчитывается двенадцать скитов и семьсот отдельных келий.
Читать дальше
![Сергей Сорочан Ромейское царство [Часть 2] обложка книги](/books/402489/sergej-sorochan-romejskoe-carstvo-chast-2-cover.webp)
![Сергей Сапрыкин - Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье]](/books/26100/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr-thumb.webp)
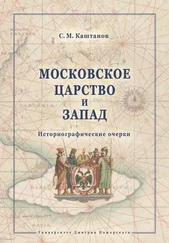



![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/433093/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk-thumb.webp)