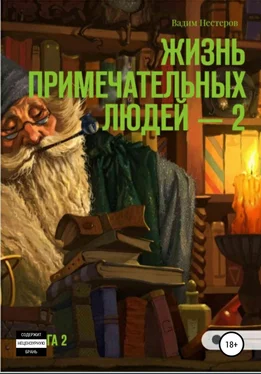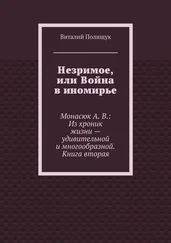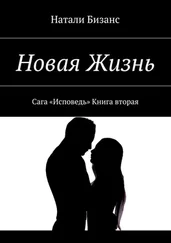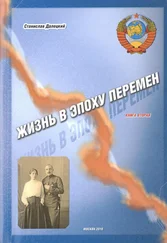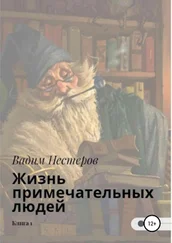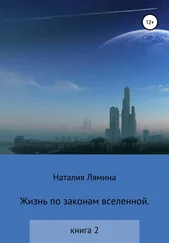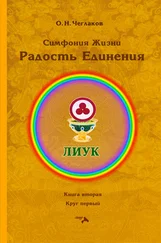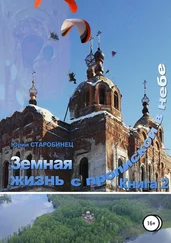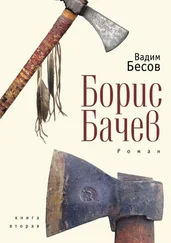Все остальное было потом.
Потом были медали за Берлин и за Варшаву, потом был конец войны, который он встретил в Гревесмюлене, потом была демобилизация в октябре 1945-го.
Потом было маниакальное, вопреки всему, желание стать актером. Потом — пятилетняя работа на сцене 2-го Заполярного театра драмы в Норильске, где он был едва ли не единственным "вольняшкой" среди расконвоированных з/к Норильлага. Потом — заработанная в Норильске цинга, потом — многолетние скитания по провинциальным театрам: Грозный, Махачкала, Сталинград…
Потом — пробивание головой невидимой стенки в Москве и Питере, массовка в кино, внештатная работа (с оплатой за выход) в случайных театрах. Утекающие годы, репутация несостоявшегося лузера, возраст, пошедший на четвертый десяток…
И — нечаянная, случайная — звездная роль князя Мышкина в "Идиоте" у Товстоногова на 33-м году жизни.
Роль, после которой он проснулся знаменитым.
А мы сейчас удивляемся — ну как так? Откуда такой актерский диапазон? Как он так мог — одинаково достоверно играть и Гамлета, и Деточкина, и ученого-физика, и негодяя, и героя?
Да очень просто.
Это поколение актеров видело кое-что в этой жизни, и они знали жизнь.
Изнутри, а не из окна спа-салона.
Они знали свою страну и людей, живущих в этом не очень ладном государстве.
Свои роли они лепили из бесчисленного множества встреч на дорогах жизни. Из тех, с кем они пили и пели, ждали смерти и побеждали, смеялись и плакали, говорили ночь напролет и молчали в тишине.
Им было из чего создавать образы.
Не было бы этих лет, прожитых со своим народом — не было бы и актера Иннокентия Смоктуновского. И очень правильно сказал другой великий актер, Алексей Баталов:
«Кто знает, не лежит ли начало всех актерских удач этого мастера где-то в тех годах, когда вместе с другими нес на своих плечах тяжесть войны и совсем юный, восемнадцатилетний сержант Иннокентий Смоктуновский?».
Глава 42. Папа остающегося с нами мальчика
Понятие «армянская мультипликация» долгие годы полностью умещалось в три непростых слова: Роберт Аршавирович Саакянц.
— Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел в городе, где ночь настает, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе.
— Чего-о?!
— Чего-чего. На хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море — не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошел куда глаза глядят. Тут заяц ка-а-ак прыгнет!
— Какой заяц!???
— Насмерть убитый! Как прыгнет куда глаза глядят, аж на тот берег моря, которое ни перелететь, ни перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень от блохи упала и зайца убила, хоть заяц — не заяц, а орел!
Кто хоть раз слышал этот безумный диалог, не забудет его никогда.
По крайней мере, дети, взрослевшие в Советском Союзе, — так точно.
Советский Союз, как и любое другое государство, обладал массой достоинств, которые, как и положено, одновременно являлись и его недостатками. Жизнь там была спокойна и упорядочена, поэтому некоего благородного безумия всегда очень не хватало. Как обычно, дефицит восполняли где угодно, порой в самых неожиданных местах. В том числе в мультипликации.
В советских мультиках, надо сказать, не было ничего страшнее так называемой "национальной республиканской мультипликации".
Смотреть все эти кукольные истории про верблюжат и баев можно было только мазохистам.
И вдруг однажды громом с ясного неба выходят несколько фильмов, сделавших понятие «армянские мультики», как сегодня бы сказали, культовым. «Ух ты, говорящая рыба!», «В синем море в белой пене», «Ишь ты, Масленица», «Три синих-синих озера малинового цвета»… Да что говорить, кто видел — поймет:
— На носу что?
— Бородавка!
— Но-но! На носу Масленица!
Это был культурный нокаут.
Именно тогда не только отечественные, но и западные почитатели анимации выучили слова «киностудия «Арменфильм» им. Амо Бекназаряна» и "Роберт Аршавирович Саакянц".
Роберт Саакянц родился в Баку в 1950 году, а когда ему было 14, семья переехала в Ереван. Здесь он закончил среднюю школу, поступил в Государственный педагогический институт имени Х. Абовяна, с четвертого курса которого его вышибли за непосещаемость — нерадивый студент уже дни и ночи пропадал на «Арменфильме». Заливщик, художник-мультипликатор, с 1972 года — режиссер-мультипликатор, все время что-то мудрил, сочинял, и никто так толком и не мог понять, что же творится в этой буйной голове. Потом… Потом был успех, о котором Роберт Аршавирович вспоминал так:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу