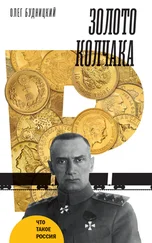Я бы очень хотел видеть ее напечатанной, ведь это все, что останется после меня. Но едва ли я этого дождусь. Здесь нет, во-первых, бумаги, а во-вторых, нигде нет больше тех русских читателей, которые жили в восточной части Европы и попали под СССР. Издание этой книги стоило бы так дорого, что я не могу питать больше той иллюзии, по крайней мере при жизни. Мне потому очень приятно, что хотя что-нибудь будет напечатано в «Новом Журнале». Но Вы не можете печатать ее всю, а печатать отдельные главы, с пропусками, как Вы делаете с «Истоками», для книги, где весь интерес в цельности, а не в эпизодах, интересных самостоятельно, было бы варварством; отдельные главы этой книги никто бы не стал читать. Может быть, как Вы печатаете первую, потому что она — первая, можно было бы напечатать и последнюю. Но эта глава, как заключительная, оторванная от того, что ей предшествовало и что ее обосновывало, утратит на три четверти свой интерес. Я сам могу быть не судьей в своем деле, но Эльяшевич пришел в ужас при мысли, что будут напечатаны отдельные главы. Годилась бы еще предпоследняя, т. к. там много фактически нового и неизвестного — но насколько можно делать такую операцию, я уже не знаю. И отдельно взятая она даст повод к зубоскальству.
Если бы мне не было совестно Вас затруднять, я бы предоставил это на Ваш суд; но посылать наудачу всю книгу как-то не решаюсь. У меня она всего в трех экземплярах. Или послать 2 последних главы: все-таки менее страшно.
4) Два слова об «исповеди». И прежде всего забудьте о таком заглавии. В ней нет ничего похожего на исповедь, вообще ничего личного. Боюсь, что я ввел Вас в заблуждение тем, что говорил и недоговаривал. Исповедь — это только фигуральное выражение, вызванное тем, что я говорил все, что думал, не заботясь о том, как к этому отнесутся и к чему меня за эти ереси «пригвоздят». Речь идет о самых реальных и злободневных вопросах, причинах кризиса демократии, о средствах ее спасти и пр. — т. е. о том, о чем рассуждали и писали люди посильнее меня. Эта глава — подражание Гоголевскому Ляпкину-Тяпкину, который доходит до сотворения мира собственным умом. И я, может быть, и не соглашусь печатать ее, да и Вы сами. Ее мне и не будет так жалко, как 2-ую Думу.
5) Теперь хочу отдохнуть от этих томительных колебаний и недоумений. Хочу ответить на то, что для меня интересно. Вы не разобрали нескольких строк письма от руки, их «истоках». Я уже неясно помню, что я Вам тогда писал, но о чем я писал, помню и Вам это повторю.
Я думаю, что у Вас редкий дар к тому историческому роману, который может быть материалом для понимания эпохи и ее атмосферы. Это своеобразная историческая работа, и я ее так и расцениваю. Словом, это то, что делали Толстой, Пушкин, Загоскин {354}и др. Думаю, что Ваш «Ключ» и его типы — не живые лица, живые «люди», в которых мы узнаем своих знакомых, — помогут многое понимать лучше ученых исследований. А так как кроме этой общей атмосферы интересна и фабула, то это и сделает Вас одним из любимых писателей.
Но тут есть опасность, и я мельком на нее указал.
Во-первых, романисту приходится вводить в рассказ исторических лиц, у которых уже есть какой-то канонический образ. Этот канонический образ может действительности не соответствовать, отражать понимание современников. Задача историка — его поправить и показать, в чем была ошибка. Но когда это делает романист, по своему произволу, не доказом, а показом, он может вводить в заблуждение; так Толстой исказил и Наполеона {355}, и особенно Кутузова {356}. Во мне есть протест «историка» против этой свободы, и я нахожу, что романисту лучше этих людей не трогать; я не хочу сказать, что Вы их исказили; не знаю. Но Вы затронули столь многих — Александра II, Бисмарка, Маркса, Бакунина, Энгельса {357}и т. д., что я инстинктивно боюсь произвола романиста. Конечно, в общем и главном эти лица соответствуют каноническим образам; но важны и детали. Вы можете соблазнить единого от малых сих. В частности, имею в виду Александра II.
Аналогично с этим опасение — в изображении целой среды; имею в виду народовольцев. Здесь трудно знать правду; революция создала легенду о своих. В ней мало исторически верного, как во всякой легенде. Подпольная Россия Степняка — один из образчиков этого. Есть ли у Вас достаточный материал, чтобы изобразить их живыми, как они были. Вы идете по жердочке над пропастью, от Вашего произвола зависит увековечить образы исторических личностей. Я Вас не осуждаю и не знаю, в какой мере Вы близки к правде. И опять-таки именно потому, что Вы не критикуете, не мотивируете, как историческая наука сделала с Годуновым, с Лжедмитрием {359}, Вы можете по своим личным симпатиям и антипатиям не послужить истории, а ее обмануть.
Читать дальше
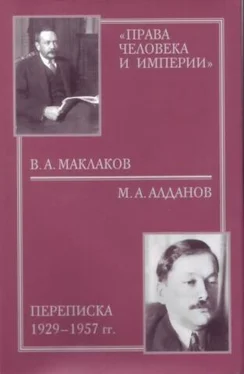
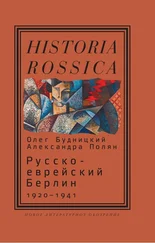



![Олег Будницкий - Терроризм в Российской Империи. Краткий курс [калибрятина]](/books/387725/oleg-budnickij-terrorizm-v-rossijskoj-imperii-kra-thumb.webp)