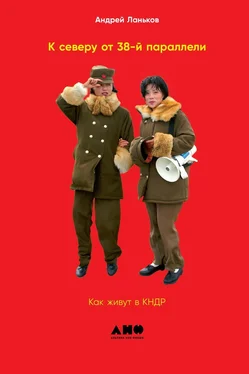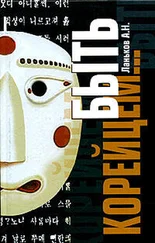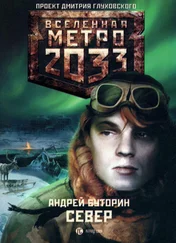Очередная попытка похищения Хо Ун-бэ была запланирована на конец февраля или март 1958-го. Однако она сорвалась, поскольку советское посольство в Пхеньяне по своим каналам получило информацию о планах северокорейских спецслужб (точнее, о выезде опергруппы и ее составе). Хо Ун-бэ чуть ли не насильно отправили в Ташкент, где он был в безопасности. Вскоре ему и его товарищам официально предоставили убежище в СССР. На новой родине Хо Ун-бэ занимался наукой, а также полулегально собирал материалы для книги о становлении режима Ким Ир Сена. Книга была издана в начале 1980-х в Японии под псевдонимом, но для компетентных органов заинтересованных стран личность автора тайной никогда не была. Вполне удачно сложилась и жизнь его однокашников-невозвращенцев.
В феврале 1958 года, после того как была сорвана вторая попытка вернуть на родину Хо Ун-бэ, советский посол А. М. Пузанов встретился с Ким Ир Сеном и потребовал, чтобы подобные операции на территории СССР более не проводились. Ким Ир Сен заявил, что ничего не знал о похищениях, вся ответственность за которые лежит на излишне активных низовых работниках (посол ему не поверил, что и зафиксировано официально в записи беседы). Ким Ир Сен попросил дипломата передать Андропову: КНДР такие операции больше проводить не будет. Обещание это, однако, было грубо нарушено уже в следующем году, когда северокорейский музыкант Ли Сан-гу, обучавшийся в Московской консерватории, обратился к советским властям с просьбой об убежище. Узнав об этом, 24 ноября 1959 года северокорейские оперативники устроили засаду, набросились на него, запихнули в машину и увезли в посольство. Через несколько часов он был самолетом отправлен в Пхеньян. Все это произошло в центре города, среди бела дня.
Реакция Москвы была жесткой. Министр иностранных дел Андрей Громыко вызвал северокорейского посла для объяснений. Советский посол тоже получил инструкции, в соответствии с которыми 19 декабря он пришел (без приглашения) в резиденцию Ким Ир Сена в десять часов вечера и прямо там заявил северокорейскому лидеру решительный протест, потребовав, в частности, отзыва посла КНДР и других лиц, замешанных в похищении Ли Сан-гу. Ким Ир Сену пришлось отозвать посла, которого, впрочем, тут же демонстративно назначили на высокий пост внутри страны (заместителем министра просвещения).
Подобные инциденты происходили не только в СССР. В качестве примера можно привести Болгарию, где в 1962 году четверо северокорейских студентов отказались возвращаться на родину. Молодых людей удалось заманить в посольство, но попытка вывезти их из страны сорвалась, и болгарское правительство предоставило им политическое убежище (опять-таки, они дожили до глубокой старости, а один из них стал известным инженером). В ответ КНДР отозвала весь дипломатический персонал из Болгарии, так что две страны фактически не имели полноценных дипломатических отношений вплоть до 1968 года (в Софии все это время работало максимально сокращенное посольство, во главе которого находился не посол, а поверенный в делах).
Как это ни парадоксально, но в 1960-е и 1970-е годы именно Советский Союз был заметным центром северокорейской политической эмиграции. Состояла эта эмиграция из двух групп, которые, в общем, слились друг с другом. С одной стороны, в нее входили такие люди, как Ли Сан-чжо и Хо Ун-бэ, то есть политические эмигранты в точном смысле слова, – их было несколько десятков человек. С другой стороны, в нее входили и те советские корейцы, которые в конце 1940-х годов были направлены на работу в КНДР и поначалу заняли там заметные посты. После того как в середине 1950-х Ким Ир Сен начал проводить линию на сокращение советского влияния, эти люди оказались в непростом положении. Многие из них были уволены, некоторые – арестованы, а остальным настойчиво порекомендовали уехать туда, откуда они приехали. Намек был понят, в результате в СССР несколько десятилетий жили многие сотни бывших высокопоставленных северокорейских чиновников и члены их семей (включая бывших министров, генералов и послов).
Глава 13
Беженцы, мигранты, перебежчики
Одним из самых важных изменений, которые произошли в Северной Корее в 1990-е, стала массовая нелегальная миграция жителей северных районов страны в Китай. В период с начала 1990-х и до конца нулевых (точнее, до 2011–2012 годов) граница КНДР была фактически открыта. Конечно, она не была открыта в том смысле, в каком, скажем, открыта граница между Канадой и США или границы между государствами Евросоюза. Теоретически для ее пересечения всегда требовалось исполнение стандартных формальностей. Однако на протяжении этих трех десятилетий она была крайне «прозрачной», или, скажем так, дырявой. Этим она, кстати, отличалась от «демилитаризованной зоны», фактической границы между Северной и Южной Кореей, которая всегда тщательно охранялась и пересечь которую неподготовленному человеку невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу