Теперь последний вопрос, который входит в мой курс, но я не сумел его уложить в план этой лекции, — это вопрос о том, что же действительно представляла из себя кадетская партия. В частном разговоре я уже сказал товарищу, что тут есть очень любопытные данные, почерпнутые, правда, из архивов департамента полиции, так что, когда мы их опубликуем, кадеты с необычайно благородным негодованием будут говорить: вот еще раз большевики оказываются вместе со всякими провокаторами и т. д. Но департамент полиции все-таки глядел за кадетской партией, хотя она и была легальной; полиция собирала данные о кадетах, и в этих данных есть очень любопытная сторона: это именно вопрос о материальных средствах кадетской партии. Оказывается, что в Москве, например, кадетов субсидировали главным образом такие персонажи, как Вишняков, основатель Коммерческого института, крупный московский толстосум, как Рябушинский. Рябушинский был наиболее щедрым снабжателем кадетов, и поэтому его кадеты собирались проводить на выборах в четвертую думу. Кандидатура Рябушинского объяснялась именно тем, что он был наиболее щедрым и, кроме того, имел свою газету. Благодаря этим двум качествам, он был для кадетов особенно важен. Я по частным сведениям знаю, что и раньше это была так. За несколько лет до того времени, к которому относится этот факт, я знал, что еще в 1907 году кадетская газета «Новь» в Москве субсидировалась некоторого рода синдикатом крупной еврейской буржуазии, которая больше всего заботилась о национальной стороне дела и, находя, что газета недостаточно защищает интересы евреев, приходила к нашему большевистскому публицисту, покойному М. Г. Лунцу (М. Григорьевский, «Полицейский социализм в России» — это его брошюра), и предлагала ему стать редактором газеты. Он был крайне изумлен, говорил: как же — ведь ваша газета кадетская, а я — большевик. Ему говорят: это все равно. Мы думаем, что ваше отношение к национальному вопросу более четко. Таким образом кадетская газета была фактически на жалованьи у еврейского буржуазного синдиката, который, как вы видите, к кадетской программе был довольно равнодушен. По данным царской полиции, кадеты получили очень крупную субсидию — до 300 тысяч финских марок, т.е. до 300 тысяч франков, или 120 тысяч рублей золотом, от финляндских буржуазных партий за поддержание интересов Финляндии в русской прессе и в Государственной думе. Вот вам другой источник. Если к этому прибавить, что кадетская газета «Речь» возникла на средства одного из воротил одного из крупнейших банков, кажется, Бака — фамилии точно, не помню, который основал «Речь» и который потом кончил жизнь самоубийством (по этому: поводу в «Речи» был очень жалостный некролог и т. д.), — если к этому прибавить, что банковские субсидии Волжско-Камского банка и Азовско-Донского банка попадаются и в агентурных донесениях о кадетской партии, то в общем и целом картина получится совершенно определенная. Этим объяснялась та позиция кадетской партии, которую она заняла во время войны. Но я вперед забегать не буду.
Итак, столыпинская политика была политикой смычки между интересами торгового капитала, который в то время все продолжал господствовать благодаря тому, что хлебные цены все продолжали ползти кверху. Если мы возьмем хлебные цены 1899 года за 100, то в 1901 году мы получим 103, в 1913 г. — 130. Хлебные цены ползли кверху, и в связи с этим рос русский хлебный вывоз не только по объему, но и по ценности. Вот размеры русского хлебного вывоза по сравнению с 1900 годом, если возьмем его за 100, вывоза как по количеству пудов, так и по количеству рублей. В 1909 году — 182 для количества пудов и 249 для количества рублей, которые за эти пуды были получены. Вы видите, как цены на хлеб за это девятилетие вскочили кверху. В 1910 году мы имеем 196 по количеству пудов и 245 по количеству рублей. В 1911 году — тоже 196 по количеству пудов и 241 по количеству рублей, и сообразно с этим конечно, и наш торговый баланс (я вам после объясню, какое это имеет значение) составлял максимальную цифру. В 1910 году наш активный баланс, т.е. перевес вывоза над ввозом, составлял 581 миллион рублей. Соответственно с этим держался и примат торгового капитала, его перевес, и по отношению к капиталу промышленному речь могла итти только об уступках, о компромиссе.
Но если столыпинская реформа непосредственно и сознательно преследовала цели удовлетворить уступками промышленный капитализм, то в конечном счете, бессознательно, на чью мельницу лил воду Столыпин?
Читать дальше
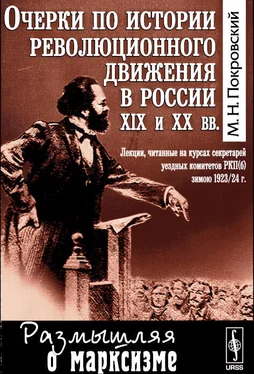






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)



