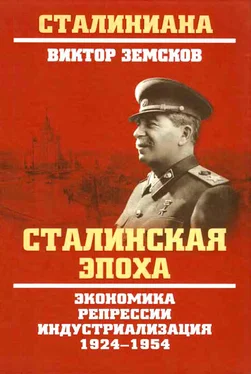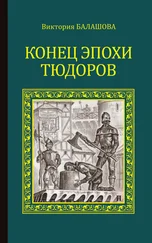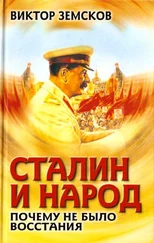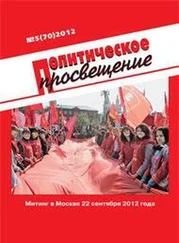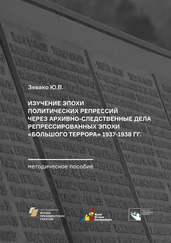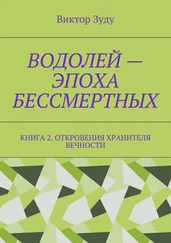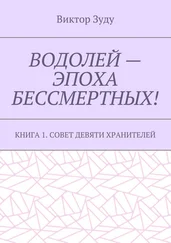Большинство документов, представленных в этих фундаментальных документальных публикациях, выявлено в архиве бывшего КГБ (ныне – ФСБ). Они проливают свет на многие явления, о которых раньше можно было только догадываться. Главное, по нашему мнению, в них – это то, что показано сопротивление крестьян коллективизации и раскулачиванию, проявлявшееся в различных формах.
В 1997–1998 гг. изданы два уникальных по своему составу и содержанию сборника документов: «Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине» и «Рязанская деревня в 1929–1930 гг.: Хроника головокружения» [9] Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине (ноябрь 1929 – март 1930 гг.) / Отв. ред. – сост.: В. Васильев, Л. Виола. Винница, 1997; Рязанская деревня в 1929–1930 гг.: Хроника головокружения / Отв. ред. – сост.: Л. Виола, Т. Макдоналд, С. В. Журавлев, А. Н. Мельник. М.; Торонто, 1998.
. Помимо этого, вышел в свет еще ряд документальных публикаций, в том числе в регионах [10] Из истории раскулачивания в Карелии. 1930–1931 гг. / Сост.: Л. И. Драздович, А. Ю. Жуков, В. Г. Макуров и др. Петрозаводск, 1991; и др.
.
Здесь уместно упомянуть, что в 2008 г. вышел очередной том за 1930-й год документального сборника «“Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране», в котором, среди прочих, представлены также документы, касающиеся коллективизации, положения в деревне, настроений в деревне и, особенно, отчеты органов ОГПУ по «кулацкой контрреволюции» [11] «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране. Т. 8. 1930 г. / Редколлегия: А. Н. Сахаров, B.C. Христофоров, Г. Н. Севастьянов (отв. редакторы) и др. М., 2008.
.
Радикальное расширение источниковой базы означало не просто начало нового этапа в развитии данного направления исторической науки, а настоящий «революционный переворот».
Во-первых, данная научная проблема получила мощные жизненные силы для дальнейшего изучения, а до этого она в источниковедческом плане все более загонялась в тупиковую ситуацию.
Во-вторых, изучение новых архивных источников вскрыло множество аспектов и нюансов, о многих из которых раньше ввиду засекреченности документов ничего (или почти ничего) не было известно.
В-третьих, даже те аспекты проблемы, которые ранее в той или иной степени не были секретом для исторической науки, под воздействием ввода в научный оборот обширного нового материала стали разрабатываться несравненно более глубоко и всесторонне.
Наконец, ввод в научный оборот нового мощного пласта исторических источников привел не только к радикальному обогащению источниковой базы, но и во многих случаях к серьезной корректировке и переосмыслению многих вопросов изучаемой темы.
Особенно ярко все это проявилось в посвященных истории коллективизации и раскулачивания работах Н. А. Ивницкого, опубликованных в постсоветский период [12] Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание: начало 30-х годов. М., 1994; Он же. Репрессивная политика советской власти в деревне. 1928–1933 гг. М., 2000; Он же. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004.
. Концептуально они сильно разнятся с его же трудами по данным сюжетам, вышедшими в 1960-х – 1970-х гг., что является следствием коренного переосмысления многих принципиальных вопросов изучаемой темы.
Следует отметить, что научные исследования и сборники документов по коллективизации (причем на довольно приличной источниковой базе, с наличием подчас уникальных документов и материалов) выходят в свет и за рубежом. Так, канадская исследовательница Л. Виола опубликовала в 1996 г. в США научную монографию, посвященную крестьянскому сопротивлению коллективизации. В том же году в Италии вышел тематический сборник «Красная Армия и коллективизация деревни (1928–1933 гг.)» [13] Красная Армия и коллективизация деревни (1928–1933 гг.) / Отв. за ис-след. Ф. Беттанин. Сост.: А. Романо, Н. Тархова. Наполи, 1996 (на рус. и ит. языках); Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivisation and the Culture of Peasant Resistence. N.Y., 1996; и др.
.
В настоящее время выявились целые сюжетные направления, которые раньше, в советское время, совершенно невозможно было исследовать ввиду полного отсутствия источников. К ним, в частности, относится спецпо-селенческая проблема. Вот, например, вышедшая в 2003 г. в издательстве «Наука» наша монография «Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960» целиком построена на ранее строго засекреченных документах, главным образом ОГПУ–НКВД [14] Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960. М., 2003.
. Истории спецпоселенцев и спецпоселенческой системы, составной частью которой являлась «кулацкая ссылка», посвящены также научные труды В. А. Берлинских, Н. М. Игнатовой, С. А. Красильникова, Т. И. Славко, В. Я. Шашкова и других исследователей [15] Шатков В. Я. Спецпереселенцы на Мурмане: Роль спецпереселенцев в развитии производительных сил на Кольском полуострове. 1930–1936 гг. Мурманск, 1993; Он же. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев. 1930–1954 гг. Мурманск, 1996; Он же. Спецпереселенцы в истории Мурманской области. Мурманск, 2004; Славко Т. И. Кулацкая ссылка на Урале. 1930–1936. М., 1995; Бердинских В. А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской России. Киров, 2003; Красильников С. А. Серп и Молох: Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М., 2003; Игнатова Н. М. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930–1950-е гг. Сыктывкар, 2009; и др.
.
Читать дальше