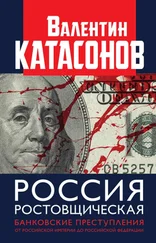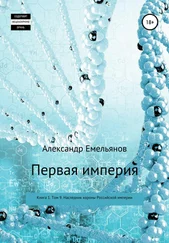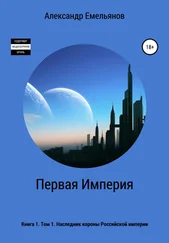256
постоянная напряженность между тем, как понимали свою роль традиционные купцы и заводчики старого поколения, и духом предпринимательства финансистов и новых, современных воротил промышленности. Позиция государства в этом конфликте далеко не была ясной и определенной. С одной стороны, государство стремилось поощрять современные предприятия, с другой - отступало назад, когда купцы и традиционные заводчики вступались за себя, используя патриотические и националистические аргументы. Правда, после 1880 года современная промышленность стала достаточно могущественной, чтобы защищать свою точку зрения и свои интересы, но это лишь обостряло ее конфликты с поместным дворянством и пролетариатом. И даже тут государство колебалось. Оно хотело и не ущемить поместное дворянство, и защитить интересы промышленности, не питая при этом особых симпатий к буржуазным предпринимателям. Кроме того, государство старалось обращаться с пролетариатом, на крестьянское происхождение и религиозно-патриотические чувства которого оно рассчитывало, с благосклонным патернализмом, повторявшим его отношение к крестьянству. Раньше многих более развитых стран, в том числе Франции, Россия получила трудовое (промышленное) законодательство, которое, однако, применялось не строго. Бывало также, что правительство учитывало интересы промышленного пролетариата, несмотря на требования буржуазии, как это было, например, в случае распоряжений, касавшихся градостроительства, что не мешало ему энергично защищать интересы промышленников, особенно крупных анонимных обществ, ворочающих иностранными капиталами. Эти колебания правительственной политики слагались под действием двух факторов: стремление к сохранению социального мира, которому угрожала концентрация многочисленного угнетенного пролетариата в городах, - с одной стороны, и традиционное недоверие и антипатия, испытываемые образованными классами и чиновниками по отношению к буржуазно-капиталистическим ценностям и материализму, - с другой.
257
Любопытно, что наследники крупных капиталов, сыновья промышленно-торговых воротил, приняли эту точку зрения и обратились против интересов и ценностей своих отцов. Объявив себя противниками материализма и капитализма, они кинулись в художественно-артистическую жизнь и даже пустились в радикально-революционную агитацию. Только накануне мировой войны несколько представителей высшей торгово-промышленной буржуазии решились активно участвовать в общественной жизни и попытались сформировать объединения и партии не для защиты одних своих экономических интересов, но и для преобразования и оздоровления системы, крах которой они, страшась, начинали предвидеть. Первая мировая война предоставила им случай конкретно оформить эту инициативу (так были основаны Земгор и Торгово-промышленный союз). Несмотря на развернутую ими энергию и влияние, которое они приобрели в ходе событий, их попытки наступили слишком поздно, чтобы предотвратить конец системы. Позицию имперского правительства характеризует одна черта: оно ничего не сделало, чтобы поощрить эту столь значительную в экономическом развитии страны часть элиты к формированию промежуточного слоя, способного выполнять конструктивную роль в общественной жизни.
258
НЕРУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
В последние пятьдесят лет имперского режима национальный вопрос, то есть положение нерусского населения империи, принял новые формы, а в XX веке стал решающим. Эта тема слишком широка даже для схематичного обзора. Мы можем только выяснить ту ее черту, которая наиболее полно раскрывает отношения между государством и обществом. С самого своего образования Российская Империя более или менее сознательно проводила политику культурной и социальной ассимиляции. Пока она применялась к народам, чей уровень цивилизации можно было счесть более низким, чем у русских, эта политика оказывалась довольно успешной. Но после завоевания и включения в империю народов с равной или высшей цивилизацией стали появляться проблемы. Инородные верхи по материальным, социальным и политическим причинам приняли ассимиляцию, в то время как не ожидавшие от этого выгод низшие классы отреагировали совершенно иначе. Так было, когда местные язык, культура и религия оказывались достаточно сильными для установления развитого чувства этнического самосознания.
259
Во второй половине XIX века традиционная политика культурной и социальной ассимиляции потеряла свой престиж и свою эффективность. Участие нерусских народов в более развитой экономике и активном обмене привело к формированию класса, образование и образ жизни которого определялись национальными традициями, религией и языком. Представители этих новых слоев, которые через русских познакомились с ценностями западного романтического национализма, естественно, подняли голос, требуя практического и политического признания их культурной самобытности путем предоставления им большей административной автономии. Имперское правительство ответило политикой исключительного шовинизма и культурно-религиозной русификации. Эта недальновидная политика только обострила конфликты и усилила недовольство инородных верхов, которые, получая образование в России, усвоили нормы интеллектуальной, просвещенной, независимой жизни, уважающей традиции и гордящейся своими прошлыми и нынешними достижениями. Представители национальных элит стали пропагандистами нового национализма, который не останавливался на требовании признания культурной самобытности своего народа, но добивался автономии своих национальных учреждений. Конфликт серьезно обострился в конце XIX века, и исступление достигло своей высшей точки после 190S года, когда под давлением русских элементов, боявшихся потерять престиж и первостепенную роль на местном уровне, усилилась политика дискриминации и русификации. Это оказалось дополнительным центробежным фактором, которому, может быть, своевременное образование автономного национального промежуточного слоя не «позволило бы стать угрозой для цельности системы и целостности Империи.
Читать дальше
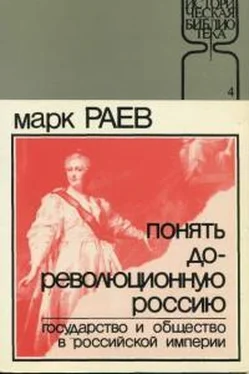

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)