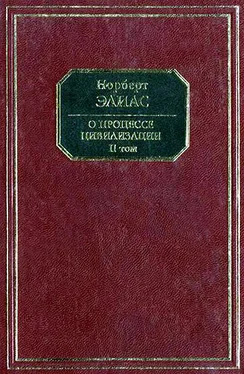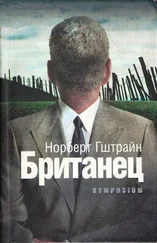См. выше: часть третья, глава III.I (п. 27–38; с. 67 сл.).
См. выше, с. 99 сл. и с. 103 сл.
Мы уже неоднократно подчеркивали, что сила противоречий между различными единицами власти и сила социальных противоречий в каждой из них неразрывно связаны друг с другом. Такого рода взаимосвязи хорошо заметны уже на заре западной истории, в феодальном обществе с преобладанием натурального хозяйства. Рост населения оказывает давление на общественное развитие и ведет к экспансии, ко всякого рода конкурентной борьбе, скажем, к стремлению завладеть каким-то участком, отняв его у противоборствующих бедных рыцарей, к желанию расширить свои владения за счет других, возникающему у рыцарей побогаче — графов, князей, королей. Но это давление является следствием не роста населения как такового, но связи этого роста с существующими отношениями собственности, с монополизацией частью рыцарства важнейших средств производства. С какого-то времени земля была прочно закреплена во владении одних, тогда как семьям и индивидам, ею еще не владевшим, доступ к земле был затруднен — отношения собственности становились все более прочными. В такой социальной констелляции количественный дальнейший рост как крестьян, так и рыцарей, утрата многими людьми своего прежнего стандарта существования вызывали давление, сверху донизу пронизывавшее все общество. Оно обнаруживается и в пределах каждой области, и между ними, ведя к обострению конкурентной борьбы (см. выше, часть третья, глава III.I, с. 41–54, 60–67). Точно так же в индустриальном обществе за рост давления в каждом государстве ответственность несет не абсолютная величина народонаселения и уж ни в коей мере не его прирост, но плотность населения плюс существующие отношения собственности — т. е. отношения между теми, кто в форме неограниченной монополии распоряжается шансами, и теми, кто этих шансов лишен.
Уже поверхностное наблюдение говорит нам о том, что степень социального давления в разных западных государствах различна. У нас по-прежнему отсутствует строгий научный инструментарий, с помощью которого мы могли бы тщательно проанализировать эти уровни давления; отсутствует и точно установленный материал наблюдения, на основании которого мы могли бы сопоставлять уровни давления в разных странах. Пока что мы можем определять это «внутреннее давление» лишь с точки зрения жизненного стандарта, если понимать под последним не только покупательную способность, но также рабочее время и интенсивность труда, необходимые для достижения этой покупательной способности. К тому же мы не поймем этого давления и противоречий в сообществе, если будем рассматривать различия между слоями в жизненном стандарте статически, т. е. на известный момент времени, а потом сравнивать эти различия с другими странами. Нужно сравнивать их на протяжении длительных отрезков времени. Силу напряженности в обществе и силу давления избыточного населения часто можно установить не по абсолютной величине существующего уровня жизни, но по остроте неожиданных перемен, когда стандарт одних слоев неожиданно опускается в сравнении с уровнем жизни других. Чтобы понять степень давления и уровень напряженности в рамках одной страны, нужно иметь перед глазами всю историческую линию развития жизненного стандарта различных ее слоев. Поэтому для получения ясной картины противоречий и уровня давления в рамках одной из промышленно развитых наций мы не можем ограничиться изображением самой этой нации. То, насколько высок жизненный уровень одного социального слоя, устанавливается в сравнении его с другими слоями; точно так же жизненный стандарт каждой из наций определяется ее положением в функциональной сети всех наций и государств земного шара. Пусть не во всех, но в большинстве индустриальных государств Европы высокий жизненный стандарт мог быть достигнут только при условии постоянного ввоза сельскохозяйственных продуктов и сырых материалов. Такой ввоз мог быть оплачен только за счет доходов, полученных от вывоза, вложения капитала в других странах или за счет собственного золотого запаса. Поэтому не только внутреннее давление, угроза падения жизненного уровня широких слоев ведут к обострению конкуренции между индустриальными державами, но и межгосударственная конкуренция, в свою очередь, играет немалую роль в усилении социального давления во внутренней конкуренции в пределах одной нации.
Читать дальше