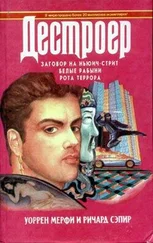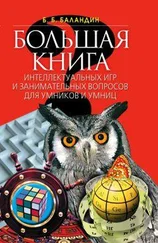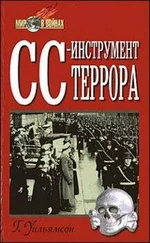С «республиканской» стороны возражали, что чаще всего речь здесь шла о злоупотреблениях, осужденных уже самим революционным правительством; что волна дехристианизации была кратковременной; что скульптуры и алтари были обезображены или разрушены по большей части революционными армиями, осуществлявшими разнузданную дехристианизацию, которую быстро прекратили; что, наконец, ряд мер был навязан «внешними обстоятельствами» — армии не хватало бронзы для пушек. Эти аргументы, которые можно в большей или меньшей степени принимать во внимание, отнюдь не противоречат тем, что выдвигаются «обличителями» вандализма. Разве иконоборческая волна не вписывалась в политику, проводимую находящимися у власти элитами, исходящую «сверху» и поддерживаемую «снизу»? Разве бравые санкюлоты, предававшиеся этому иконоборчеству, не поощрялись, особенно во II году, властью и разве санкции не оставались исключительно на бумаге? И разве эти опустошения не продолжались «хладнокровно» (наиболее ярким здесь является пример Клюни) на протяжении всего правления Директории, когда «внешних обстоятельств» уже не существовало?
При этом, похоже, ни один из двух представленных лагерей не придает особого значения термидорианскому периоду, когда тем не менее утверждался дискурс, направленный против вандализма. Одни не делают этого, поскольку испытывают отвращение при мысли о том, чтобы признать приоритет реакции, которой следует отдать должное в плане прекращения разрушений, тогда как Революция в свои «героические» годы явно претендовала на защиту искусств и культуры. Кроме того, созидательная работа термидорианского периода в области культуры — к примеру, организация Политехнической школы, Нормальной школы или Музея французских памятников — была продолжением инициатив, проявленных во времена правления монтаньяров. «Хулители» вандализма преуменьшали значение Термидора по совершенно другим причинам. В конечном счете Термидор осудил вандализм, однако в реальности не прекратил его. Всё те же свойственные Революции опустошения продолжались от начала до самого конца, один период от другого отличался лишь их интенсивностью. После Термидора ничто не было отреставрировано, и Музей Ленуара являлся самое большее кладбищем искалеченных скульптур, а их так называемое сохранение очень часто оказывалось еще одним способом их изуродовать. Полемические рассуждения о вандализме всегда сходились на том, что стремление к разрушению скорее активно декларировалось, чем действительно реализовывалось. В конце концов, Лион, город, который Конвент обрек на исчезновение, до сих пор существует... Одни видели в этом доказательство того, что вербальное насилие нередко преобладало над действиями и что Революция, даже если она порой и впадала в диктуемые исключительно «внешними обстоятельствами» бесчинства, в конце концов смогла их преодолеть. Другие видели в этом подтверждение той мысли, что стремление к разрушению не могло в полной мере реализоваться за недостатком времени и физической возможности, поскольку в противном случае Франция лишилась бы всего своего культурного наследия.
И те и другие лишь делают очевидными внутренние противоречия культурной политики Революции. С самого начала Революция вторгалась в сферу культуры, рождала надежды и мечты и провоцировала неудачи. Она претендовала на то, чтобы быть дочерью Просвещения, единственной законной наследницей «просвещенного разума». Тем самым революционная власть приписывала себе роль распорядителя если не всего национального культурного достояния, то, по крайней мере, той его части, которая в силу ряда политических и социальных мер — конфискации собственности духовенства и эмигрантов (однако разве эти меры не имели культурного аспекта? можно ли их понять вне этого аспекта?) — оказалась национализирована. Власти, представляющей Нацию, принадлежало право поставить эти культурные ценности на службу Нации, а не горстке привилегированных, стать защитницей искусств, перевести их в пространство культуры, которая совпадала с демократическим политическим пространством. Революционные власти постоянно и в полный голос настаивали на этой обязанности и этой ответственности и соответственна наталкивались на все практические трудности, которые влекло за собой управление национализированным культурным достоянием: недостаток подходящих помещений, компетентного персонала, от которого требовалась лояльность новому режиму, нехватка средств и т.д. К этим недостаткам инфраструктуры добавлялись, особенно в «героический» период, революционные иллюзии: благодаря «революционной энергии», которую Барер сравнивал с солнцем Африки, заставляющим быстрее произрастать растения, каждый проект мог быть реализован очень быстро, в течение нескольких месяцев, а на худой конец, одного или двух лет. Однако если под «солнцем Революции» урожай проектов — в этом сомнений нет — созревал быстро, то в том, что касалось их реализации, одного только солнца было недостаточно: количество культурных ценностей, которыми надо было управлять, оказалось слишком велико (более миллиона книг по всей стране были свалены в импровизированные хранилища), и если не хватало средств, то и цели оставались неопределенными.
Читать дальше