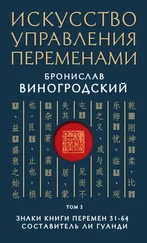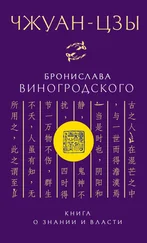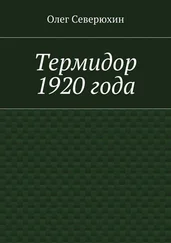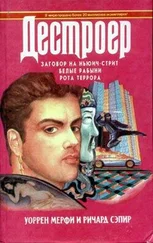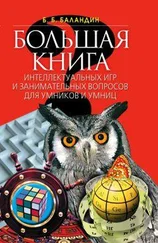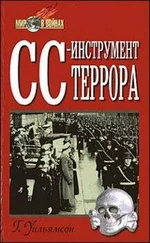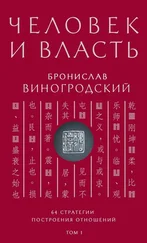Можно привести еще немало цитат, иллюстрирующих дилемму, если не тупик, в котором оказались революционные элиты: уберечь от подозрений в варварстве образы Революции и суверенного народа — и осудить тем или иным образом «варварские» действия, которые, очевидно, совершались не принцами или священниками, а прекрасно вписывались в патриотическую и гражданскую манеру поведения революционных армий, комитетов бдительности, агентов Республики, прикрываемых, если не поощряемых, представителями в миссиях. Другими словами, как образом осудить «варварство» и «варваров» в качестве внешних и враждебных Революции сил, когда со всей очевидностью следовало признать существование «варваров среди нас»? Как сделать это, в особенности в разгар Террора, когда слова тщательно взвешивались и когда тесно связанные со Старым порядком интеллектуальные элиты были поражены страхом, даже если они искренне поддерживали дело Революции (что происходило отнюдь не всегда, а нередко было и вовсе далеко от этого). Революционный дискурс обходил эти препятствия, кидаясь от весьма абстрактного осуждения «варваров» к изобретению заговора вандалов. Что это было — простое словосочетание, фальсификация или умелое манипулирование словами? Дело обстояло куда сложнее. Даже если признать, что речь здесь идет лишь о простом манипулировании, то разве манипуляторами не манипулировали неподвластные им представления? Говоря языком социологии, успех представления — а представление о «заговоре вандалов» может послужить тут отличной иллюстрацией — показателен как в отношении коллективной системы образов, в которую оно вписывается, так и в отношении распространявшего его дискурса. Понятие «заговор вандалов» сочетало в себе не просто два слова, но и — в равной мере — две навязчивые идеи. Одна принадлежала политическим и интеллектуальным элитам, столкнувшимся с «варварством», которое Революция заставила подняться из недр народа Его разрушительная сила была весьма наглядна и являлась символом опасности, угрожавшей всей культуре, которую эти элиты считали своей и с которой себя идентифицировали. Другая же навязчивая идея, с которой мы уже знакомы по слуху о Робеспьере- короле, размывала революционные систему образов и менталитет с совершенно иной силой: это был страх перед многоликими кознями, которые без устали плели враги дела Революции [167].
Эта вторая навязчивая идея предоставляла во времена Террора редкостную возможность для манипуляций. Повсюду царила всеобщая подозрительность в адрес тех, кто до сих пор еще не разоблачен, кто прячется в армии, в революционных комитетах и обществах, в самом Конвенте. Техника эксплуатации этой навязчивой идеи обкатывалась в ходе политической борьбы. Она широко использовалась не только профессиональными политиками на национальном уровне (и, разумеется, полицией), но и для сведения счетов на местах. В представлении о «заговоре» «разоблаченные враги» были взаимозаменяемы. Искусство и техника манипуляций заключались в создании амальгам, стиравших границы между всеми возможными «врагами», в особенности между теми, кто был видим и находился вовне — тиранами, аристократами и т.д., и теми, кто «прятался», затесавшись в ряды народа. Эта манипуляционная техника была легко видоизменяема, она оперировала своего рода матрицами новых «врагов», которых еще предстояло разоблачить, сделанными по образцу «врагов» старых, уже разоблаченных. В условиях запутанной политической конъюнктуры с резкими внезапными поворотами то в одну, то в другую сторону, смещения от идеологии и политических воззрений в сторону неприкрытых манипуляций становились неизбежны (и наоборот, традиция манипулирования в свою очередь подпитывала подозрения, доносы, идеологическое исступление, и, в конце концов, в политической игре стало участвовать весьма ограниченное количество действующих лиц, терзаемых злобой и личной враждой). Разоблачение «заговора вандалов» лишь один из примеров этой сложной игры навязчивых идей и идеологии, социальной системы образов и манипуляций, в которой за небольшой промежуток времени и в совершенно определенном контексте политико-культурный страх перед «варварской угрозой» обернулся политико-полицейским дискурсом.
21 нивоза II года Грегуар представил Конвенту от имени Комитета общественного образования доклад о надписях на общественных памятниках. В частности, он предложил законодателям, которые уже приняли «мудрые меры», добавить к ним другие, чтобы обеспечить «сохранение древних надписей, которые пощадило время». За единственным исключением этот доклад не вносил ничего нового в рассуждения о разрушении памятников. Конвент «принял мудрое решение об уничтожении всего, что несет на себе отпечаток роялизма и феодализма». Даже «прекрасные стихи Борбония, начертанные над дверями Арсенала», никто не пощадил, и это было вполне справедливо, поскольку «они были запятнаны лестью в адрес тирана» (речь идет о Генрихе IV). Однако этих мудрых декретов было недостаточно, поскольку уничтожались и античные памятники, которые должны быть сохранены «все до единого». Такие памятники были «своего рода вехами, и какой здравомыслящий человек не содрогнется от одной только мысли о том, что молот обрушится на древности Оранжа или Нима». Уничтожение их было бы варварским актом. А единственным нововведением в докладе Грегуара как раз и было определение варварства: «Нельзя внушить гражданам слишком много ужаса в отношении этого вандализма, которому известно лишь разрушение». Слово подчеркнуто в тексте, дабы стало очевидным, что речь идет о неологизме. Задним числом это нововведение можно воспринять как своего рода поворот в истории рассуждений о «вандалах». Сам же текст не блещет оригинальностью. Он повторяет приведенные выше клише, и «вандализм» в нем быстро приписывается «контрреволюционному варварству», которое стремится «нас обеднить, обесчестив». Агенты «вандализма» совершенно не отличаются от других контрреволюционеров, как обычно, вероломных. Отстаивая древние надписи («их уничтожение станет потерей; переводить их было бы анахронизмом»), Грегуар восхваляет превосходство французского языка (предназначенного стать «всеобщим языком», о котором мечтал Лейбниц) над древними языками, тем более что Грегуар ставил французских революционеров куда выше «античных республиканцев». Разумеется, «мы чтим их память», однако кто возмечтает «стать греком или римлянином, когда он француз»? Здесь имеет место восторженность или фигура речи, напоминающая иное: в своем докладе о проекте декрета, предлагающего роспуск старых академий, Грегуар без колебания заявлял, что «практически всегда истинно талантливый человек — это санкюлот» [168].
Читать дальше