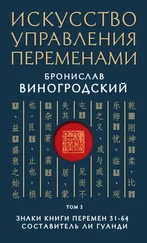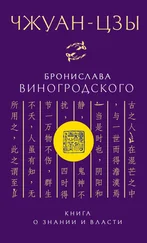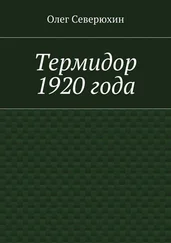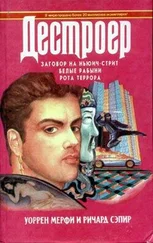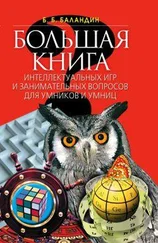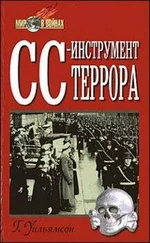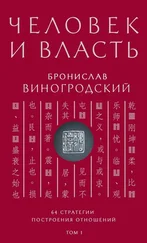«Использование этой коварной и явно контрреволюционной манеры отделять факты и события Революции от повлекших их за собой революционных кризисов приведет к суду над самой Революцией... И к суду над всем народом, поскольку это им совершены все революции, поскольку именно он стоит у истоков тех бед, от которых они не отделимы: что ж, судите, наказывайте всех скопом! Это приведет к суду и над самой свободой, поскольку она может защитить себя, лишь ведя постоянную, энергичную и революционную борьбу против врагов, и над союзом патриотов, взявших на себя ее защиту и сохранение». (Suite du rapport... P. 27-29).
В этом месте аргументация Каррье следовала за парадигматическим революционным дискурсом. Очевидно, он считал себя не более виновным, чем другие «террористы», бывшие представители в миссиях, которые ныне против него ополчились. Процесс, который стремились ему навязать, мог быть объяснен лишь тайными причинами, выдающими существование «заговора». Того же самого «заговора», который имел своей целью гибель народных обществ, Якобинского клуба и всех «выдающихся патриотов». Завершая последнее выступление перед коллегами, Каррье восклицал:
«Конвент наверняка догадывается, что это суд роялизма над свободой, фанатизма над философией, именно они выступают против меня. Вой в мой адрес подняла толпа роялистов и фанатиков из Нанта и Вандеи... Не забывайте, граждане, что посреди столкновения партий так же, как и посреди бурных событий Революции, страсти, сиюминутные мысли всегда приводят к пагубным бесчинствам: успокоившись, их оплакивают, однако это запоздалые и бесполезные сожаления. Разум и философия оправдали память Каласа; но мы можем проливать лишь бесплодные слезы над его могилой».
Похоже, что вплоть до 22 брюмера, когда был закрыт Якобинский клуб, Каррье верил, что логика и политическая осмотрительность возобладают, что они заставят депутатов Конвента закрыть дело о своей коллективной ответственности («В этом зале виновен даже колокольчик председателя», — говорил он). Он рассчитывал, что возобладает инстинкт солидарности, тем более что Конвент в очередной раз оказался бы под давлением якобинцев и народных обществ, поддержанных депутатами-монтаньярами.
Однако эта политическая тактика, чьи предпосылки отнюдь не были ошибочными, обернулась против Каррье. Поскольку тот же анализ политической ситуации привел к противоположным выводам: необходимо, чтобы Конвент снял с себя всякую коллективную ответственность и в максимальной степени возложил ее на одного Каррье. Отчеты полиции показывали, что среди народа и в секциях дело Каррье стало предметом страстных дискуссий. «Рассматривая это дело, одни боялись, что преступления, неотделимые от великих революций, останутся безнаказанными; другие видели здесь явное стремление устроить суд над преступлениями Революции, чтобы иметь предлог для суда над самой Революцией; вот истинное отражение тех споров, которые идут в народе» [135]. Приговор Каррье должен был положить конец этим колебаниям части общественного мнения и стать ответом на ожидания тех многочисленных людей, которые видели в этом приговоре элементарную справедливость. Каррье в данном случае мог рассчитывать на поддержку якобинцев и «Вершины». Кто бы ни планировал ускорить отстранение от власти и тех и других, процесс якобинца Каррье предоставлял для этого желанную возможность. К этой стратегии присоединилось большинство Конвента. Однако поведение Конвента было уже не тем, что во фрюктидоре II года: поскольку соотношение сил радикальным образом изменилось, он мог вновь поднять вопрос об ответственности за Террор.
После декрета Конвента якобинцы оказались в тупике; Клуб не мог более переписываться с другими народными обществами и соответственно выполнять роль главного Клуба. Число людей, участвовавших в заседаниях, — и членов Клуба, и зрителей — постоянно сокращалось (к середине брюмера Клуб посещало всего каких-то триста человек); якобинцев обвиняли в газетах; их Клуб, используя выражение Мерлена (из Тионвиля), называли «логовом разбойников». Против них было направлено обращение от 18 вандемьера, обличавшее «исключительных патриотов», стремящихся возродить Террор. Изоляция якобинцев нарастала, все меньше и меньше депутатов посещало их заседания. У якобинцев больше не было политического проекта, который можно было бы последовательно противопоставлять политике антитеррористического возмездия, в которую все активнее втягивалось правительство. Они напрасно старались протестовать против уподобления «террористам», поскольку только к ним стекались жалобы «преследуемых патриотов» и департаментских террористических кадров, ставших жертвами репрессий. Они не прекращали нападать на слишком большую свободу печати, благоприятствовавшую, по их мнению, «аристократам» и «контрреволюционерам», однако эти нападки лишь подстегивали антиякобинские статьи и памфлеты. Что же оставалось Каррье? Он был одним из них, одним из ключевых деятелей приходившего в упадок Клуба, одним из последних «передовых» монтаньяров. Нападая на него, нападали на Клуб, однако разоблачения Террора в Нанте и роли, сыгранной в нем Каррье, равно как и начало Конвентом процедуры обвинения представителя в миссии, сделали из него персонификацию «кровопийцы». Клуб так и не решился окончательно бросить его на произвол судьбы: это означало бы капитуляцию перед антиякобинскими нападками и предательство дела всех «преследуемых и оболганных патриотов», чьим символом также стал Каррье, это означало лишиться поддержки последних активных членов. Однако слишком активное участие в защите Каррье могло превратить их в глазах общественного мнения в сторонников потоплений и расстрелов и поощрить «охоту» на якобинцев.
Читать дальше