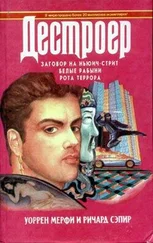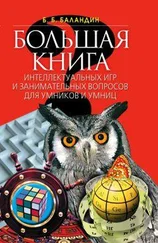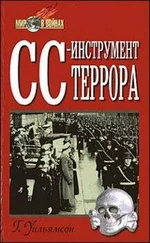Концентрация всей ненависти, которую процесс заставил подняться на поверхность, на обвиняемых или, шире, на кадрах Террора объясняет то, что действиям обвиняемых, как правило, не придавали идеологической мотивации: крайне редки показания, в которых в качестве смягчающих обстоятельств говорилось бы об их «преувеличенных революционных чувствах» или в которых их называли бы заблудшими душами. Зато сами обвиняемые ссылались на «революционные намерения», признавая, впрочем, свои заблуждения. Ставка была высока: Трибунал должен был вынести свое решение, принимая во внимание «статью о намерениях», революционные или контрреволюционные мотивации инкриминируемых действий. Однако несложно догадаться, что проблема не была исключительно юридической. За нападками и обвинениями В адрес конкретных лиц вырисовывался своего рода коллективный портрет всех обвиняемых и соответственно террористических кадров. Индивидуальные различия стирались, и возникал единый образ банды негодяев, «кровопийц», «каннибалов», которые без зазрения совести терроризировали целый город. Их единственными мотивами были ненависть, жестокость, алчность и другие самые отвратительные страсти. Они были не просто убийцами, но прежде всего ничтожными негодяями, ворами и мошенниками. Революция не нуждалась в них; это они нуждались в Революции своей мечты, чтобы завладеть властью, обогатиться и удовлетворить свои низменные страсти. Обвинительный акт фактически открывается этим портретом:
«Они осмелились свершить все эти злодеяния под маской патриотизма; они уничтожили добродетель, чтобы короновать преступление; они умышленно творили все мыслимые бесчинства... Эти аморальные создания подчинили честь и порядочность своим страстям; они говорили о патриотизме и душили его бесценные всходы... Вместо того чтобы притушить и окончить злополучную войну, раздирающую лоно отечества, они разжигали ее огонь своими жестокостями; они были пособниками планов наших вероломных врагов, которые, чтобы подчинить нас, прибегали ко всему, что подсказывала им подлость. Не в силах атаковать республиканцев открыто, они искали в их среде подлых рабов, прятавших под маской патриотизма души отъявленных негодяев и развращенные сердца» [122].
Обвиняемые были лишь видимой, хотя и успешно разоблаченной частью широкого сообщества злоумышленников. Доказательством этого служило то, что во время заседаний Трибунала многие свидетели были также разоблачены и арестованы; то, что Каррье, хотя он и был обвинен в организации потоплений, расстрелов без суда и других жестокостях, сел на скамью обвиняемых лишь 7 фримера, то есть через сорок два дня после начала процесса Революционного комитета.
Широко распространенное в политическом языке термидорианцев представление о «террористах» находило свое подтверждение в показаниях свидетелей. «Кровопийцы», «каннибалы» — это были не просто эпитеты или метафоры; обвиняемые словно бы действительно пили кровь и вели себя как каннибалы. Показания содержат прекрасные примеры того, как стирались границы между воспоминаниями о Терроре в Нанте и галлюцинациями, рождавшимися в глубинах искалеченных умов. Приведем несколько примеров подобной работы коллективной фантазии.
Франсуа Карон, бывший прокурор, солдат из роты Марата, выступил с душераздирающими показаниями о подготовке к потоплению в ночь с 24 на 25 фримера в Буффе, куда он отправился вместе с другими «Маратами». К этому он добавил то, что знал со слуха, — ходившую по городу молву. «Меня заверяли, что у женщины, готовой родить, был вырван плод, что его насадили на кончик штыка и бросили в воду». В свою очередь, рассказывая о жестокостях, совершенных вандейцами, «террористы» приводили аналогичные образы: женщины с развороченными животами, варварские действия, выражавшие стремление уничтожить врага вплоть до его еще не рожденного потомства. Рассказы, которые невозможно проверить, свидетельствовали о накале ненависти с обеих сторон: врага обвиняли в совершении насилия, одновременно и предельно жестокого, и предельно архаичного. Тот же свидетель утверждал, что Гулен якобы заявил с трибуны народного общества: «Смотрите, чтобы среди вас не оказалось умеренных, ложных патриотов; необходимо принимать в наши ряды лишь революционеров, патриотов, имевших смелость выпить стакан человеческой крови». Гулен тщетно объяснял, «что его слова исказили» и что он всего лишь хотел перефразировать знаменитое высказывание Марата, заявлявшего, что он «хотел бы иметь возможность напиться крови всех врагов отечества». Эпитет «кровопийца» оказывался правдой; отмеченная им группа врагов рода человеческого закрепляла эту ассоциацию посредством ритуала, за которым стояла многовековая символика, — ритуала шабаша и договора с дьяволом. Другие свидетели рассказывали о других символических деяниях: по словам Пинара, он привез из одной экспедиции против вандейцев чаши для причастия и другие предметы культа; Каррье же потребовал, чтобы Пинар выпил из этой чаши неизвестный ему странный напиток и упрекнул в том, что не перебили «всю эту мразь». Жан-Батист О'Салливан, тридцати трех лет, обучавший военному делу и назначенный Каррье аджюданом [123], давал показания по поводу потоплений возле складов: Каррье заявил ему, что граждане Нанта — контрреволюционеры и что необходимо войско в 150 000 человек, чтобы уничтожить всех нантцев. Тем не менее председатель суда задал ему вопрос о его собственных подвигах: «Не практиковали ли вы сами перерезание разбойникам горла ножом с очень узким лезвием? Не хвалились ли вы сами, говоря: "Я внимательно смотрел, как это делает мясник; с этими разбойниками у меня тот же разговор; я заставлял их повернуть голову, как если бы они хотели посмотреть на рыб; я проводил им ножом по горлу, и готово дело"». Зал «содрогался от ужаса». О'Салливан объяснил, что, участвуя в войне с «разбойниками» и видя их жестокости, он мог «в порыве отвращения» сказать, что, «если эти разбойники попадут мне в руки, я зарежу их своим ножом, чтобы отомстить за моих братьев, [...] однако я не способен совершить казнь через подобное кровопускание и не могу об этом слышать без содрогания». Он был арестован в зале заседаний суда и присоединен к другим обвиняемым.
Читать дальше