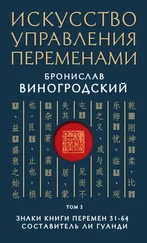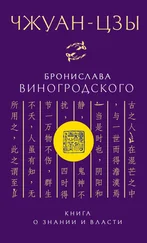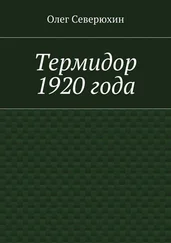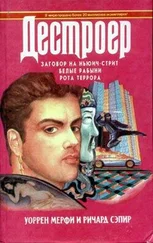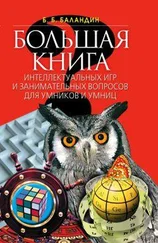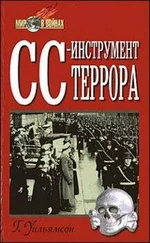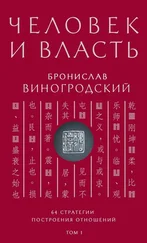совершить не еще одну революцию, а
иную революцию. На вопрос: «Какую революцию?», получивший распространение марксизм давал специфические ответы. Ведь марксизм определял Французскую революцию в классовых терминах: она была буржуазной и по своим целям, и по своему гегемону; грядущая же революция в силу самой Истории может быть лишь социалистической и пролетарской. Тем не менее отсылки к Французской революции и поиски аналогий между нею и будущей русской революцией (которую еще предстояло подготовить) отнюдь не исчезли. Должна ли Россия пройти через две революции, буржуазную и социалистическую, отделенные одна от другой более или менее длительным периодом капиталистической и республиканской стабильности? Или же, сумев извлечь уроки из Французской революции и особенностей капитализма в России, русские революционеры пропустят эти этапы? Должны ли инструменты революционной власти, изобретенные в ходе Французской революции (в частности, Террор), неизбежно использоваться в каждой революции? Должен ли ход Французской революции — «переворот», свержение Старого порядка, революционное правительство, контрреволюционное сопротивление, гражданская война и т.д. — неизбежно повториться в каждой революции? И тот же вопрос возникал в отношении тупиков, в которые попадала Французская революция, — отлива революционной волны, в частности при Термидоре, и бонапартистской диктатуры. Так между образом Французской революции и проектами революции грядущей появлялись ряды аналогий и зеркал, обладавших самыми разнообразными функциями: понять настоящее при помощи обращения к прошлому; идентифицировать себя при помощи заимствованных моделей (якобинцы, жирондисты и т.д.) и осознать тем самым разницу между политическими деятелями и, самое главное, повлиять на будущее.
На протяжении всего времени, пока эта аналогия находилась на службе революционных замыслов, отсылки к Термидору скорее оставались маргинальными: аналогия с Французской революцией преимущественно служила для прояснения механизмов начала революционного движения и прихода к власти, а не для предотвращения более поздних и отдаленных опасностей и рисков. Ситуация коренным образом изменилась после Октябрьской революции и прихода к власти большевиков: аналогия с Термидором перемещается с периферии в центр постреволюционной системы образов и идеологических дебатов. Аналогия с Термидором или, скорее, даже призрак Термидора неотступно преследуют умы. И в самом деле, в соответствии с постъякобинской и марксистской традициями Термидор рассматривался как полный опасностей переломный момент, время, когда революция резко меняет направление и ее движение прерывается, как период буржуазной и даже контрреволюционной реакции. Короче говоря, Термидор — это символ движения революции вспять, можно даже сказать — ее упадка и вырождения; кроме того, это и предвестье 18 брюмера, диктатуры, при которой революция гибнет, — еще один тревожащий умы призрак. С приходом к власти большевиков не начинает ли история повторяться и не превращается ли, если перефразировать Гегеля и Маркса, в трагический фарс?
В марте 1918 года, через шесть месяцев после Октября и накануне Брест-Литовского мира, Мартов, лидер и теоретик меньшевиков, предрекал неизбежную гибель «коммунистической диктатуры большевиков». По его словам, Россия находилась накануне своего собственного Термидора. Однако, подчеркивал он, необходимо различать два значения этого термина или, если угодно, две фазы Термидора: события собственно 9 термидора, свержение Робеспьера и его единомышленников, и последовавшую за этим контрреволюционную реакцию. Свержение Ленина и окружающей его группы фанатиков и авантюристов неминуемо и даже вот-вот произойдет. Тем не менее воспроизводство французской парадигмы отнюдь не неизбежно. Можно сделать так, чтобы свержение диктатора имело иные последствия, и избежать второй фазы: «истинные революционеры», в частности меньшевики, должны приложить все усилия, чтобы изменить ход событий и спасти демократию вкупе с завоеваниями революции. В случае их неудачи история повторится, и Россия рухнет в контрреволюционную пропасть — еще более беспощадную, чем это было во Франции.
Как известно, ни один из этих сценариев не воплотился в жизнь, однако аналогии с Термидором и дебаты о «русском Термидоре» только начинались. Они были особенно бурными в новом политическом контексте, в эмиграции, после имевших сильный резонанс статей Николая Устрялова. Бывший руководитель партии кадетов, Устрялов после поражения Колчака укрылся в Харбине, где стал выступать в качестве идеолога «сменовеховцев». В серии статей, опубликованных в 1922-1923 годах, Устрялов предлагает смою собственную интерпретацию французского Термидора и соответственно свою концепцию Термидора русского. Он подчеркивает, что Термидор отнюдь не сводится к падению Робеспьера, оно было лишь его эпизодом, своего рода дворцовым переворотом. Термидор — это и не реакция, и не контрреволюциями часть революции, необходимый этап революционного процесса. Дойдя до этого этапа, революция все меняет, оставаясь при этом самой собой. Она оставляет позади чрезмерные надежды и жестокие бесчинства, довольствуясь настоящим и своими завоеваниями. Достигнув пика, революционная волна неизбежно должна пойти на спад: таким образом, Термидор представляет собой переломный момент в революции, навязанный ее деятелям историей. Во Франции Робеспьер и его сторонники не осознали данного изменения, вследствие чего оно произошло за их счет. Напротив, в России Ленин смог извлечь уроки из прошлого, и теперь путем провозглашения НЭПа он пытается пожертвовать коммунизмом, чтобы спасти власть Советов и своей партии. Тем самым он приспособился к термидорианской динамике и с успехом приступил к «замедлению революции» («спуску на тормозах»), своего рода автотермидору. Соответственно путь Термидора будет долог и пройдет под знаком советской власти, однако в конечном счете приведет к ее санации, перестройке Русского государства, полному отказу от военного коммунизма, и даже вообще от коммунизма.
Читать дальше