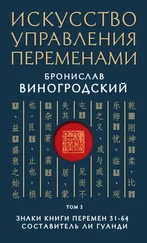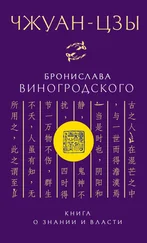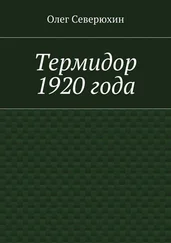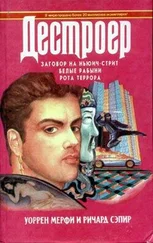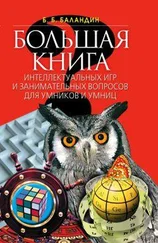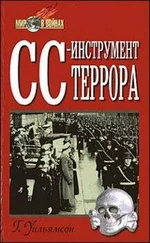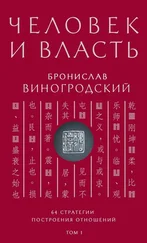Слух о том, что Робеспьер хотел стать преемником Людовика XVI, не остался незамеченным историками Революции — особенно теми, кто занимался 9 термидора. Большинство не стало на нем останавливаться, упомянув и тут же с пренебрежением отвергнув: он был слишком абсурдным и к тому же полностью сфабрикованным.
Однако нам кажется, что к нему стоит отнестись со вниманием. И не для того, чтобы выяснять степень его обоснованности; наоборот, он привлек наше внимание именно в силу своей очевидной ложности.
Давно уже стало общим местом, о котором, однако, часто забывают, что ложный слух является реальным фактом общественной жизни, и в этом качестве он таит в себе часть исторической правды — важны не сведения, которые он готов предать огласке, а условия, при которых его возникновение и распространение стало возможным, состояние умов, ментальность и представления тех, кто принимал его за чистую монету. Таким образом, чем более ложен, абсурден и фантастичен распространенный слух, тем больше открытий сулит изучение его истории. А очевидно, что слух о Робеспьере-короле на самом деле циркулировал в беспокойном Париже 9 и 10 термидора; по крайней мере, некоторые участники тех событий видели в нем обнародование доселе скрытой правды. И интересно не только то, что такой слух существовал. Если 9 термидора этот слух смог укорениться в социальной системе образов, следует задаться рядом вопросов по поводу этой системы образов и самого события, от которого слух настолько неотделим, что при всей своей ложности повлиял на его развязку.
Мы можем лишь частично реконструировать историю этого слуха. По двум причинам: он оставил лишь мимолетные воспоминания, и свидетельства о нем нередко противоречивы. Слух распространялся в печати и из уст в уста. Однако это разделение весьма условно: газеты, афиши, брошюры, в которых сообщались новости, распространялись разносчиками, кричавшими во все горло, чтобы привлечь внимание публики. На улицах и площадях собирались толпы, и текст нередко читали вслух, по ходу комментируя.
Хотя от времен Революции до нас дошло немало текстов, не стоит забывать, что культура той эпохи оставалась преимущественно устной и, в частности, политическая информация циркулировала в народных массах, как правило, именно таким образом.
Особенно ярко это видно на примере парижских «народных восстаний», когда десятки тысяч людей вступали в контакт непосредственно на улице. Таким образом, распространявшийся устно слух оставлял мало следов, а даже если они и были, то весьма туманные. Так и от ночи с 9 на 10 термидора, когда зародился наш слух, до нас дошло огромное количество документов: отчеты о дебатах в Конвенте; протоколы революционных комитетов и собраний секций; доклады, которые эти комитеты наравне с командованием вооруженных сил секций час за часом отправляли в Комитеты общественного спасения и общей безопасности; протоколы Коммуны; бесчисленные свидетельства и т.д. Однако этот комплекс документов в равной мере (или даже прежде всего) показывает смятение, царившее той ночью среди действующих лиц. Это изобилие не заполняет вполне определенные лакуны и даже добавляет противоречия к тому смятению, которым отмечены рассказы о событиях. Кроме того, слух о Робеспьере-короле, как и любые другие циркулировавшие в обществе слухи, постоянно видоизменялся. Он существовал во множестве вариантов, от самых примитивных до наиболее изощренных, со множеством разветвлений, и его историю невозможно реконструировать, не составив их перечень — так, как это делают антропологи, однако в любом случае он будет весьма неполон.
Утром 9 термидора во время заседания Конвента, закончившегося арестом Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста и других, наш слух еще не распространился. Бийо-Варенн называет Робеспьера тираном, используя этот термин и для выделения главного обвиняемого, и как оскорбительный эпитет. Депутаты Конвента подхватывают его, крича: «Долой тирана!», заклиная этими возгласами свой страх и мешая Робеспьеру этими повторяющимися восклицаниями взять слово. Тальен добавляет другие эпитеты: новый Кромвель, новый Катилина. Среди обвинений в адрес Робеспьера, сколь многочисленных, столь и разрозненных, отсутствует обвинение в желании восстановить королевскую власть и вдобавок самому стать королем. Во время этих дебатов намек на «трон» появляется лишь один раз — в риторических пассажах Фрерона против Кутона: «Кутон — это тигр, жаждущий крови национального представительства. Он осмелился, развлекаясь, как король, говорить в обществе Якобинцев о пяти или шести головах депутатов Конвента. А ведь это было лишь началом, и он мечтал превратить наши трупы в ступени, по которым взошел бы на трон». Пассаж оказался смехотворно нелепым; Кутон парировал его одной фразой, показав на свои парализованные ноги: «Ну да, я хотел взойти на трон...»
Читать дальше