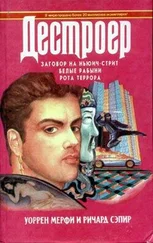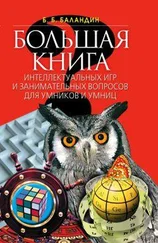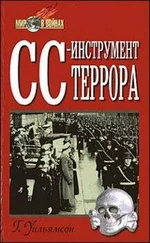Теоретически у Республики уже имелась Конституция. Она была разработана в июне 1793 года после свержения жирондистов, но так никогда и не введена в действие. Конституция была написана очень быстро, в течение одной недели, Эро де Сешелем и столь же быстро, практически без обсуждения, одобрена Конвентом. Эта ускоренная процедура отражала политическую волю; власть якобинцев и монтаньяров стремилась продемонстрировать, что способна «энергично» разрешить проблемы, с которыми не могли справиться жирондисты (проект Конституции, разработанный Кондорсе, упрекали в том, что он слишком сложен и слишком либерален). Власть в особенности стремилась превратить утверждение проекта Конституции на референдуме в плебисцит в пользу диктатуры монтаньяров и против жирондистов, санкционирующий, таким образом, переворот 31 мая. Голосование (публичное и устное, сопровождавшееся множеством нарушений) проходило под давлением революционных властей и комитетов. Его результаты были не удивительны: 1 801 918 «за», 11 600 избирателей осмелились проголосовать против, по меньшей мере 4 300 000 граждан не приняли участие в голосовании. Принятие Конституции было торжественно отпраздновано 10 августа 1793 года, вечером того же дня текст был торжественно заключен в «ковчег из кедра» и помещен в зале заседаний Конвента. Вступление Конституции в силу было отложено до наступления мира.
Революционная историография с удовольствием подчеркивала демократический характер этой Конституции (в особенности введение всеобщего избирательного права) и провозглашение в Декларации прав человека и гражданина «социальных прав», однако нередко привлекалось внимание и к тем трудностям, которые возникли бы после ее вступления в силу «в мирное время» (слишком частые референдумы и выборы, слишком широкие полномочия законодателей и т.д.). Как бы то ни было, текст был сделан на скорую руку; небрежность, с которой он был подготовлен, особенно сильно контрастировала с серьезными дебатами по Конституции 1791 года. Возникал даже вопрос о намерениях ее авторов: предполагали ли они с самого начала нечто большее, нежели пропагандистское действие? Намеревались ли они всерьез когда-нибудь ввести в действие Конституцию, для которой заранее был изготовлен «ковчег»? Или, скорее, они планировали пересмотреть ее после наступления мира? Монтаньярский Конвент так никогда и не приступил к разработке органических законов; якобинцы были первыми, кто осуждал как контрреволюционную идею всякий намек на применение Конституции, и в частности на созыв первичных собраний. (Как мы уже отмечали, такова же была после 9 термидора и реакция на инициативы Электорального клуба; во фрюктидоре II года уже утративший свое единство Конвент легко обрел его по этому вопросу.) Конституция 1793 года была особенно плохо приспособлена к проблемам изменения политического пространства, возникшим после демонтажа Террора. И в самом деле, достаточно вспомнить об остававшемся в ней нечетком определении взаимоотношений между властью, вышедшей из системы представительства, и полномочиями, принадлежавшими соперничавшей с ней власти, которая требовала права «каждой части народа» на сопротивление, претендовала на то, чтобы быть «поднявшимся с колен народом» и напрямую пользоваться неограниченным суверенитетом путем совершаемого в ходе народных выступлений насилия. (Так, например, статья 23 Декларации прав человека и гражданина предусматривала, что «сопротивление угнетению есть следствие других Прав человека», а в статье 35 той же Декларации говорилось: «Когда правительство нарушает права народа, то для народа и каждой части народа восстание есть самое священное и самое необходимое из прав» [212].)
Таким образом, Конституция 1793 года, вдвойне спорная из-за условий ее разработки и принятия, самим своим содержанием ничем не мешала в первые месяцы после 9 термидора, поскольку никто не собирался извлекать ее из «ковчега». И лишь к зиме-весне III года она превратилась в препятствие на пути демонтажа Террора и перекомпоновки политических механизмов.
Инициатива в поднятии вопроса о Конституции 1793 года парадоксальным образом принадлежала депутатам-якобинцам; они видели в ней предлог для вмешательства в политику. 24 брюмера III года они удивили Конвент, неожиданно продемонстрировав интерес к вступлению этой Конституции в силу. Они предложили приступить к работе над органическими законами и соответственно подготовить упразднение революционного порядка управления и восстановление конституционной формы правления. Поскольку наступил мир, необходимо окончить Революцию и ввести в действие Конституцию 1793 года: «Пусть Национальный Конвент призовет всех своих депутатов заняться дополнением органическими законами Конституции, с воодушевлением принятой французским народом после того, как революционный поток оказался преодолен, а врагов его независимости заставили заключить почетный мир». Поддержав Одуэна, Барер придал этому предложению, затуманенному возвышенными словами о принципах Республики и ее блестящем будущем, непосредственное политическое значение: оно должно показать народу «истинный смысл революции 9 термидора»; остановить махинации «секретного комитета иностранной партии», рука которой, без сомнения, видна за «последними событиями» и которая, искусно распределяя роли, заставляет «бурлить мысли народа», развращает общественное мнение, клевещет на «энергичных патриотов» и заставляет обвинять свободу во «всех злоупотреблениях, объясняющихся лишь обстоятельствами военного времени». Эти более чем прозрачные намеки на недавние события объясняют внезапное пробуждение интереса якобинцев к Конституции. И в самом деле, предложение ввести ее в действие было высказано всего два дня спустя после закрытия Якобинского клуба. Прозвучавшее именно в этот момент требование извлечь Конституцию из ковчега показывало стремление косвенно оспорить законность данного решения (разве Конституция не гарантировала права народных обществ?) и поставить под сомнение как неправомерную и противозаконную всю антиякобинскую политику Комитетов, пользовавшихся властью в силу законов о революционном порядке управления.
Читать дальше