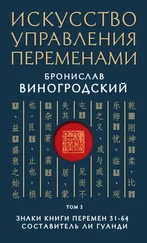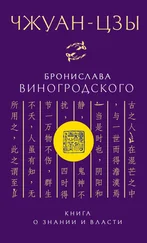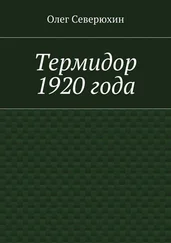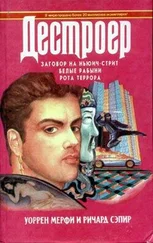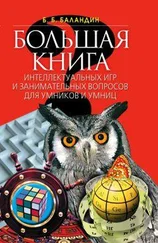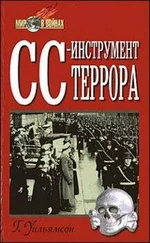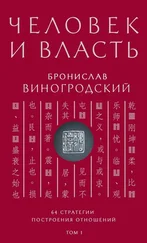«смело напомнить одну из главных истин: множество людей, родившихся на территории Франции, — это и есть народ. Часть этого народа получила собственность по наследству, купила или заработала своим трудом; другая часть того же самого народа трудится, чтобы ее получить или преумножить. Между этими двумя частями народа существуют едва заметные градации в зависимости от достатка, бедные и богатые; и те и другие совершенно необходимы».
Без сомнения, «добродетельный и искусный законодатель» должен бороться с пороками и тех и других и богатых, и бедных, обеспечивая тем самым их единство. Однако главный урок, который следует извлечь из Террора, «из этой системы преступлений под маской патриотизма», — это бдительность в отношении
«людей со свирепым взглядом, бледными лицами, гневными голосами, которые возбуждают враждебность народа против части его самого, коварно именуемой ими золотым миллионом» [206].
Народ-дитя, народ, сбившийся с пути, народ, погрязший в вандализме и терроре, отделяла от сброда все менее и менее очевидная граница. В конце концов, термидорианский дискурс рисковал слиться воедино с нападками различного рода врагов Революции и Республики, которую те называли тиранией черни. И казнивший короля Конвент превратился бы тогда, несмотря на термидорианский переворот, в ничтожную банду преступников и убийц. Это была проблема дискурса, проблема образа народа, но в равной мере, если не прежде всего, проблема преимущественно политическая — власти и ее легитимности. Так, в то же самое время, когда термидорианский дискурс стирал границу между «вандалами» и «народом», он путем удивительных ухищрений прилагал все усилия, чтобы ее восстановить; и если он настаивал па разделении «народа» на богатых и бедных, на миллион и па двадцать пять миллионов, то лишь, для того, чтобы укрепить взаимосвязь между теми и другими, которую должен обеспечить «добродетельный законодатель». Вся легитимность термидорианской власти основывалась на единой и неделимой, как и Республика, воле народа, «свободного и суверенного». Ссылки на народ, на «пославших нас сюда двадцать шесть миллионов французов» постоянно присутствовали в термидорианском дискурсе. Этот образ был всё менее волнующим и героическим, всё более символическим и проблематичным, раскалываемым изнутри обвинениями против «вандалов и каннибалов», — и тем не менее необходимым. Все противоречия термидорианской власти проявлялись в двойном стремлении (если не называть это необходимостью) — сохранить в дискурсе этот легитимирующий его базовый политический образ и не допустить в будущем влияния этого единого образа на представления Революции о самой себе. Тем самым за народом все больше и больше признавали одну-единственную функцию: легитимировать Республику и, соответственно ее власть. Тем самым народ стали связывать лишь с теми реалиями, которые, как считалось, были его воплощением. Так, народ воплощала армия, победоносно сражавшаяся по ту сторону границ во имя Республики; его воплощением также, и прежде всего, была власть; депутаты Конвента все более идентифицировали с народом самих себя — политические кадры, без использования которых Республика бы пала. Народ, бывший объектом изощренной риторики на протяжении всей Революции, при Термидоре превратился в символическую опору для умения пользоваться властью, приобретенного в ходе той же самой Революции.
Таким образом, в этой системе политических представлений народ не мог быть ни целиком «вандальским», ни целиком «цивилизованным»; он должен был занимать промежуточную позицию на полпути между цивилизацией и варварством. Направленный против вандализма дискурс содержал в себе представление о цивилизующей власти.
И в самом деле, Термидор был «счастливым периодом Революции, когда вызванные ею невежество и пороки были изгнаны с тех мест, которые оказались отданы им заговорщиками», тем временем, когда
«французские законодатели, бывшие свидетелями тех бед, которые грозили принести с собой варварство и вандализм, твердо высказались против этих врагов рода человеческого и разрушили преступные надежды тирании, создав институты, призванные преумножать человеческие знания» [207].
Все великие культурные и педагогические творения термидорианского периода — Политехническая школа, Нормальная школа, Институт, Музей французских памятников и т.д. — были обусловлены дискурсом, направленным против «вандализма и его губительных последствий». Культура на протяжении трех последних лет повторяла судьбу Национального Конвента. «Она стенала вместе с вами от тирании Робеспьера, она восходила вместе с вашими коллегами на эшафоты, и в это время бедствий патриотизм и науки, чьи сожаления и слезы сливались воедино, молили у одних и тех же могил о возвращении жертв, которые были в равной мере дороги им. После 9 термидора, вновь взяв власть и вернув свободу, вы наконец сможете утешить их, поощряя искусства. Конвент не желал, подобно королям, принизить таланты, заставив их выпрашивать подаяние; он поторопился оказать должную поддержку тем людям, чья бедность служит обвинением в адрес Нации, которую они прославляли и просвещали» [208].
Читать дальше