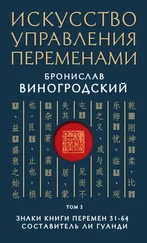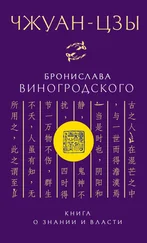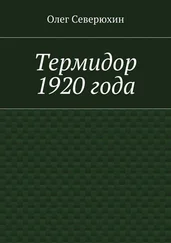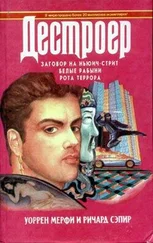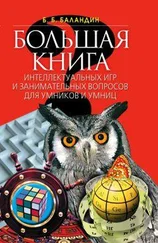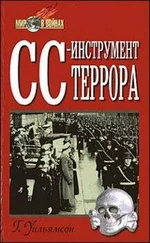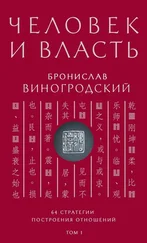Термидорианский Конвент предложил помощь ученым и художникам. Он воздал должное «жертвам вандальского Террора», Лавуазье и Кондорсе; он бесповоротно положил конец иконоборчеству. Разумеется, он не остановил разрушение всех памятников: особняки, монастыри, замки, немало национальных имуществ по-прежнему продавались по низким ценам и были объектами необузданной спекуляции. В равной мере была разрушена — и об этом нередко забывают — большая часть того, что считалось во II году началом если не специфически революционной, то по крайней мере «санкюлотской» культуры. Если до нас не дошли возведенные во II году статуи, то не только потому, что они были сделаны из гипса, но и потому, что, подобно Народу-Геркулесу, они оказались разрушены, а Музей Ленуара их не принимал. Санкюлотская одежда, обязательное обращение на «ты», революционные имена, пики, политизация воинствующих меньшинств — все это было отменено, поскольку термидорианцы видели здесь признаки вандализма и Террора. Напротив, выжили те элементы символического революционного списка, которые власть рассматривала как педагогические инструменты для укрепления революционных нравов: среди прочего революционный календарь и становившиеся все менее популярными декадные праздники; засыхающие деревья свободы, которые административные циркуляры вновь предписывали сажать и ухаживать за ними; республиканская система мер и весов, республиканские катехизисы [209]. Обличая вандализм и террористическую тиранию, термидорианская власть тем самым позиционировала себя в качестве единственного законного наследника просветителей. Соединяясь с педагогическим дискурсом, антивандальный дискурс узаконивал четко обозначенное распределение символических ролей между цивилизующей властью и народом, который надо сделать цивилизованным. Власть была обязана вывести этот народ из невежества, но в равной мере она должна была и присматривать за ним, чтобы он вновь не поддался искушению анархии и вандализма. Аналогичным образом в Конституции III года, которая должна была ознаменовать собой завершение Революции, пересекались обе тенденции антивандального дискурса: стремление исключить «вандалов» из политического поля и желание включить народ в рамки Республики, воплощающей прогресс и цивилизацию. Это соединение культурного и политического, несколько общих черт которого мы наметили, хотя в реальности у него было огромное множество воплощений, стало одной из особенностей термидорианского периода [210] . Защищая народ от его собственного невежества и от возвращения «вандальского Террора», четкое распределение социальных и культурных ролей должно было и завершить выход из Террора, окончить Революцию и создать прочный фундамент для Республики.
Глава V
Термидорианский период
Каким образом «в нынешних обстоятельствах можно закончить Революцию» и на каких принципах «должна быть основана Республика»? Эти вопросы, сформулированные госпожой де Сталь в 1797 году [211], живейшим образом ощущались зимой и летом III года. Характерный для той эпохи политический и социальный кризис делал их весьма острыми. Проводимая властью политика реванша отвечала эмоциональным требованиям момента (хотя правительство ни в коей мере не сдерживало всё усиливающееся стремление к мести, а, напротив, разжигало его, порождая новые волны насилия и произвола). Однако она не давала ответа на главный вопрос, вызванный осуждением «системы Террора»: какое политическое и институциональное пространство должно прийти на смену Террору? Выйти из Террора — это, без сомнения, означало прежде всего покончить с его институтами и его кадрами. Однако чем дальше продвигались по этому пути, тем больше он смыкался с антитеррористическими и антиякобинскими репрессиями, формы и размах которых центральная власть оказывалась способна контролировать всё хуже.
Причиной подобной ситуации было то, что, как мы видели, «термидорианцы» не располагали никаким политическим проектом ни 9 термидора, ни в первые месяцы после этой «памятной революции». Последовательное развитие проблем, с которыми приходилось сталкиваться «термидорианцам», навязывало им определенную логику политических действий. Каждое новое временное решение влекло за собой новые ситуации, из которых им приходилось искать выход. В конечном итоге стремление предотвратить возврат к Террору потребовало, чтобы политические проблемы оказались сформулированы в позитивных институциональных и конституционных терминах. Произошел переход от вопроса, как покончить с Террором, к вопросу, как закончить Революцию. Ответы на все эти вопросы «термидорианцам» приходилось формулировать одновременно в терминах реакции на Террор и в терминах обещания будущего. Им пришлось изобрести новую утопию, соответствующую новой отправной точке Республики, возвращенной к своим истокам и базовым принципам, надеждам и обещаниям, скомпрометированным Террором. И историк, который стремится понять, каким образом завершился термидорианский период и какие перспективы он открывал, должен в равной мере держать в голове и реакцию, и утопию.
Читать дальше