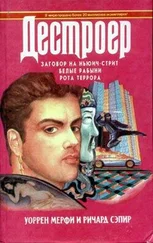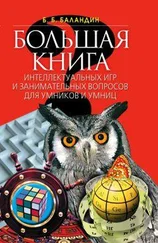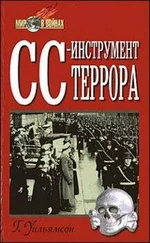Эта схематизация, безусловно, чрезмерна, поскольку в реальности обе тенденции довольно редко доходили до крайности и противостояли одна другой. Но именно потому, что они были переплетены вплоть до полного слияния, нам кажется полезным прояснить на первый взгляд парадоксальный характер их сложности.
«В большинстве коммун есть свой маленький Робеспьер; и в то время как новый Катилина заплатил за свою жестокость, взойдя на эшафот, его наместники спокойны. В большинстве мест, где искусства потерпели такой ущерб, ответственные за это в основном известны, и национальные агенты превращаются в сообщников, не обличив их перед общественными обвинителями» [190].
Набирая размах, призывая преследовать «маленьких Робеспьеров», антивандальный дискурс (вне зависимости от намерений самого Грегуара) целил не только в тех, кто напрямую внес свой вклад в разрушение памятников и произведений искусства. Он был направлен против всех, кто во времена Террора обладал властью на местах, всех членов революционных комитетов и активистов-санкюлотов, воплощавших в жизнь инспирированные «сверху» центральной властью репрессии, но в равной мере и против их организаторов и людей, которые активно проводили в жизнь Террор на местах. Отталкиваясь от обличения «заговора» Робеспьера и его сторонников, узкой группы лиц, и переходя к преследованию «маленьких Робеспьеров» по всей стране, Грегуар следовал в русле антитеррористического дискурса, который довольно быстро от обличения «тирана» перешел к нападкам на «робеспьеризм» и «систему Террора».
Эта эволюция дискурса ознаменовала заметную перемену в представлениях о «вандалах». «Маленькие робеспьеры» рассматривались не просто как слепые орудия в руках «тирана». Они не были введены в заблуждение макиавеллиевским заговором, что в некотором роде снимало бы с них вину, — они были замешаны в нем. В течение нескольких месяцев в термидорианском дискурсе все больше укреплялось чувство ненависти и мести в отношении тех, кто, выйдя из «низов», дорвался до власти и тиранил, бросал в тюрьмы, унижал «добрых граждан». «Палачи царствовали, мошенники обогащались, невежды занимали все места», — без устали повторял Тальен в своей газете [191]. «Тиран» хотел заставить Нацию деградировать, поощряя самые пагубные и жестокие наклонности человеческой натуры. Как показал процесс Революционного комитета Нанта, к «тирану» стихийно стекались преступники, душегубы и воры. В течение зимы 1794 / 95 года термидорианский дискурс использовал в адрес «маленьких Робеспьеров» особенно агрессивную лексику: недавние «террористы», персонал революционных комитетов — это людоеды, каннибалы, пьющие человеческую кровь. Несомненно, речь идет об оскорблениях и ругательствах, однако они соответствовали навязчивым образам, чье воздействие было абсолютно реально. Разве в ходе процесса Революционного комитета Нанта не было засвидетельствовано, что во время своих заседаний члены народного общества исполняли жестокий ритуал, своего рода адскую мессу: в знак солидарности каждый выпивал кубок, наполненный кровью? «Каннибалы», то есть те, кто стоит вне цивилизации, «чудовища», которые по своей жестокой и дикой природе сами приговорили себя к исключению из общества, если не к простому и однозначному уничтожению. Об этом же говорилось и в «Пробуждении народа», этой контр-«Марсельезе» «золотой молодежи», в настоящем призыве к кровавой мести, который распевали в театрах, в кафе, под сводами Пале Насьональ (бывший Пале-Руаяль).
Французский народ, народ братьев,
Можешь ли ты смотреть, не содрогаясь от ужаса,
Как преступление водружает знамена
Резни и террора?
Ты терпишь, что ужасная орда
Убийц и разбойников
Оскверняет своим кровожадным дыханием
Мир живых.
Как, эта орда людоедов,
Которую ад изверг из своего чрева,
Проповедует убийства и резню?!
Она покрыта твоей кровью!
Что за варварская медлительность!
Поторопись же народ-суверен,
Вернуть чудовищам Тенара [192]
Всех этих кровопийц.
Стенающие души невинных
Упокойтесь в своих могилах,
День запоздалой мести
Заставит наконец побледнеть ваших палачей.
Да, мы клянемся на ваших надгробиях
Нашей несчастной страной
Устроить гекатомбу
Этим отвратительным каннибалам [193] [194].
Каннибалы, но также и варвары, и вандалы. В термидорианских системе образов и языке эти два представления соединялись друг с другом вплоть до слияния воедино. Так, Бабёф использовал оба термина в качестве синонимов, обличая преступления Террора, «ужасы, которым удивляются века и нации», одновременно как «отвратительный каннибализм» и как «плоды варварства» [195]. Оба термина обладали единой функцией позорного исключения, изгнания из цивилизации; они клеймили «врагов рода человеческого», вышедших из мира тьмы, преступлений и убийств. За одним лишь исключением (если, конечно, возможно уловить нюансы в этом исступленном вербальном насилии, которое, — не стоит забывать, — легитимировало и направляло насилие физическое, охоту на «якобинцев» и «террористов»): «каннибал», «кровопийца» символизировал кровавый Террор, связанный с проскрипциями, гильотиной, тюрьмами; «вандал» персонифицировал тиранию невежества, антикультуры. «Вандал» — это, если можно так выразиться, иное лицо «каннибала», пожирателя культуры. Царство Террора повлекло за собой не только убийства и смерти невинных (на цифры не скупились: десятки тысяч, сотни тысяч, говорили даже о миллионах...). Террор — это и торжествующий вандализм, и соответственно прискорбный образ Нации, погруженной во тьму невежества.
Читать дальше