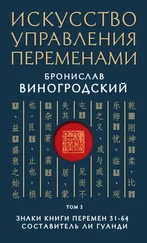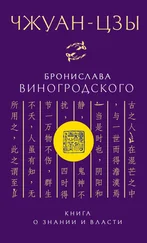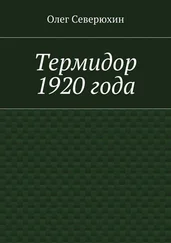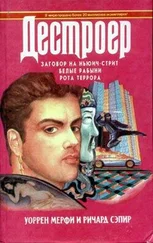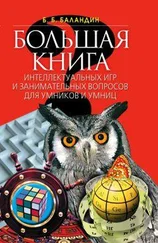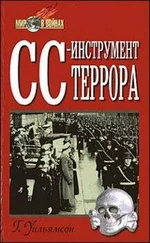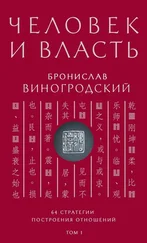Обвиняя «Робеспьера-вандала», Грегуар в точности следовал той же самой схеме, которая применялась в разгар Террора в мессидоре II года против «эбертизма в искусстве». Если вандалов легко найти «среди нас», это может объясняться только заговором «скрытых врагов». Террористическая схема была просто-напросто развернута против «террористов», что уже само по себе является удивительным феноменом и показывает особенности термидорианского периода. Если перефразировать слова Пейяна (который прятался начиная с 9 термидора, пытаясь избежать репрессий, поскольку был обвинен в «робеспьеризме» и «вандализме»), «вандализм» — это «робеспьеризм в искусстве», продолжение и завершение Террора в сфере культуры. Как мы уже говорили, в схеме заговора фигуры «заговорщиков» взаимозаменяемы. Однако в качестве конкретного воплощения подобной фигуры фантастический образ «заговора вандалов» приобретал новые значения, точно так же, как его эксплуатация и манипуляция им меняла политический и культурный расклад [180].
Доклады Грегуара усиливают и превращают в систему сюжет, проходивший красной нитью через весь политический дискурс, начиная с самого «свержения тирана». В самом деле, в выдумке о «робеспьеристском заговоре», распространяемой термидорианской пропагандой, немалое место принадлежит проникновению этого «заговора» в культурную сферу. Уже 11 термидора в своем первом докладе о «великом дне», который спас Республику от «ужасного заговора», среди других преступлений «факционеров» Барер обличал самую суть их вероломного плана: проект «отравления наиболее ценного источника — общественного образования» [181]. 13 термидора в Якобинском клубе в ходе заседания, на котором распоясавшиеся члены Клуба предавались взаимным упрекам и на котором царило всеобщее недоверие, Ассенфратц воскликнул: «Лежит ли ныне тень Робеспьера на этом зале? Путем личных обвинений этот тиран всех ссорил и разделял, хотел укрепить свой авторитет и деспотически царить над мнениями, хотел удержать нас под своим ярмом [...], Пусть же Клуб займется ныне предметом, в наибольшей степени достойным его внимания: я имею в виду общественное образование, которое тиран постоянно откладывал в долгий ящик, чтобы лучше достичь своей цели: господства над невеждами и слепцами» [182].
Вне всяких сомнений, мы видим здесь очередную вариацию все той же темы: «истинные» якобинцы сами были жертвами «тирана», и теперь они должны сплотить ряды и обеспечить свое единство. Но в равной мере здесь присутствует обвинение, устанавливающее связь между Робеспьером-тираном и Робеспьером-вандалом, между терроризмом и вандализмом. Тем самым появляется возможность представить оба феномена в качестве орудий одного и того же заговора и соответственно, избавиться от них.
Чтобы лучше понять, как функционировал данный дискурс, который одновременно и обвинял, и оправдывал, небезынтересно выделить из потока термидорианской риторики конкретные факты, которые вменялись в вину Робеспьеру и использовались в качестве доказательства его «вандализма». Это отнюдь не просто. Ведь на самом деле образ «Робеспьера-вандала» стал, в особенности после докладов Грегуара, до такой степени стереотипным, что нередко ограничивались либо отсылкой к нему как к вещи очевидной, либо усиливали его риторическими и демагогическими пассажами, как это делал, например, Фрерон, обвиняя «этого нового Омара, желавшего сжечь библиотеки» [183]. Некоторые обвинения были более конкретными. Фуркруа, отличавшийся нападками на «вандализм» «последнего тирана», утверждал: «Он ничего не знал, он вышел из грязи невежества, он собирал доказательства против ряда своих коллег, друзей просветителей и науки, которых он препроводил на эшафот. Последний тиран произнес перед вами пять или шесть речей, в которых с отвратительной искусностью воспитывал отвращение ко всем тем, кто занимался крупными исследованиями, всем тем, кто имел обширные знания».
В докладе, подводившем итог II году, Ленде без колебаний упрекал Робеспьера в том, что тот никогда не осмеливался «посмотреть в глаза ученому или полезному человеку». Ж.-М. Шенье именовал его «честолюбивым невеждой», впадавшим «мало-помалу в постыдное варварство». Жан Дебри обвинял «тирана», «чья зависть никогда не готова была смириться с идеей о том, что [люди] могут даже не превосходить его, а, я бы сказал, быть ему хотя бы равными» (по этим причинам он откладывал перенесение в Пантеон праха Руссо) [184]. Это, несомненно, характерные черты, однако они свойственны любому тирану. Главное доказательство «вандализма» Робеспьера (если не единственное более или менее конкретное), к которому беспрестанно возвращались, — это доклад от 13 июля 1793 года об общественном образовании. Как известно, Робеспьер представил и поддержал план образования, найденный в бумагах Мишеля Ле Пелетье. В качестве одного из основных принципов этот план предусматривал, что ребенок принадлежит Родине, а родители — лишь его хранители; соответственно предлагалось введение общего и обязательного образования для всех детей от пяти до двенадцати лет, оторванных от их семей и собранных в общественных зданиях — полуинтернатах, полуказармах. Так, «то, что у Ле Пелетье было лишь ошибкой, у Робеспьера превратилось в преступление. Под предлогом стремления сделать из нас спартанцев он хотел превратить нас в илотов и подготовить военный режим, который стал бы не чем иным, как тиранией» [185]. Этот план, «нереализуемый в тех условиях, в которых находилась Республика», был представлен лишь «для того, чтобы не было никакого образования, [чтобы] разом уничтожить все общественные учреждения, ничего не поставив на их место» [186]. Будучи отмечен «печатью глупой тирании», он вводил «варварское правило, вырывающее дитя из рук его отца, превращая благо образования в жестокое рабство и угрожая тюрьмой, смертью тем родителям, которые могли и хотели выполнить сладчайшее обязательство, наложенное на них природой» [187].
Читать дальше