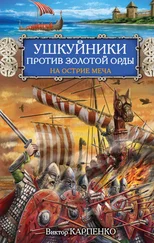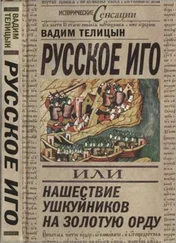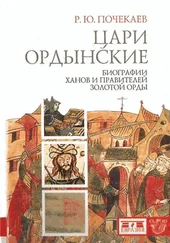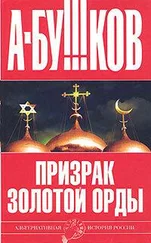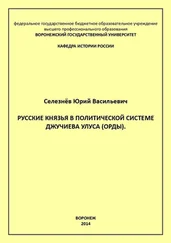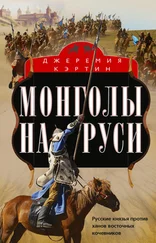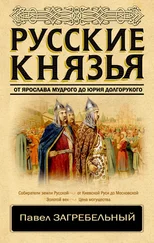Лишь единожды в Лаврентьевской летописи титулы «казн» и «цесарь» отождествлены друг с другом. Под 1257 годом отмечено, что «тое же зимы приеха Глебъ Василькович ис Кану земли от цесаря» [30] Там же. Стб. 474.
. Встречается также два косвенных известия в той же Лаврентьевской летописи. Первое — под 1252 годом при описании так называемой «Неврюевой рати». Летопись сообщает, что владимирский князь Андрей Ярославич, который «здума… бегати нежели цесарем служить» [31] Там же. Стб. 473
, вызвал гнев Батыя. С большой долей вероятности можно предполагать, что Андрей выказал неповиновение именно центральной монгольской власти, за что и поплатился военным вторжением.
Второе известие связано с описанием восстания в русских землях против ордынских баскаков-откушциков в 1262 году, в преддверии которого «титям приехалъ от цесаря Татарьского именем Кутлубии» [32] Там же. Стб. 476.
, под которым вполне обоснованно предполагается каан Хубилай (1259–1294 годы).
Южнорусское летописание представлено для рассматриваемого времени Галицко-Волынской летописью, которая сложна по составу и структуре. Традиционно она делится на летописный свод 1246 года, так называемую «летопись епископа Иоанна» (оканчивается 1260 годом), свод Василька Романовича Волынского (ок. 1263–1271 годы), «летописец Владимира Васильковича» (1272–1289 годы) и свод Мстислава Даниловича (1289–1291 годы).
Комплекс известий с титулованием монголо-татарских правителей в 1240–1260-х годах связан с «летописью епископа Иоанна». В свидетельствах о походе Батыя на Русь под 1240 годом отмечается: «Менгуканови же пришедшу сглядать града Киева»; «Меньгу и Кююкь, — иже вратися уведавъ смерть канову, и бысть каномь» [33] ПСРЛ. Т. II. Стб. 765.
. Показателен здесь факт упоминания сына Угедея Гуюка и сына Тулуя Менгу с титулом «каан», чего не могло быть в отношении первого ранее 1246 года, а в отношении второго — ранее 1251 года.
Однако упоминаемые при описании поездки в степь князя Даниила имена ордынских правителей не сопровождаются никакими титулами. Лишь однажды старшая жена Батыя поименована с титулом «великой княгини Баракъчинови» [34] Там же. Стб. 807.
. По всей видимости, перед нами калька с именования жен Чингизидов, известного нам по мусульманским источникам, — Хатун-и бузург — «старшая госпожа» или хатун-и бузургтар — «великая госпожа» [35] Султанов Т. И . Чингиз-хан и Чингизиды. С. 11.
. Тем не менее составитель и читатель данной части Галицко-Волынской летописи должен был косвенно воспринимать Батыя как «великого князя» — мужа великой княгини.
Таким образом, в большинстве случаев в русской письменной традиции в 1240–1250-е годы было принято именовать монгольского императора «кааном», за которым признавался как эквивалент титул «царь»/«цесарь». Ордынские же правители выступают в источниках без титулов и без почетных определений. Только в Галицко-Волынской летописи применительно к Батыю в косвенном свидетельстве обнаруживается возможное титулование «великий князь»/«князь».
Именование ордынских правителей «царями» впервые встречается под 1266 годом. «Рогожский летописец» отмечает: «Того же лета умре царь Татарскыи Беркаи» [36] ПСРЛ. Т. ХV. Вып. 1. Стб. 33.
. И далее, под 1275 годом, отмечено: «…поеха велики князь въ Татары къ цареви» [37] ПСРЛ. Т. ХХV. С. 151.
. В Симеоновской летописи читаем под 1277 годом: «…поехаша на воину съ царемъ Менгутемеромъ… царь же почтивъ добре» [38] Там же. С. 75.
; под 1282 годом: «Князь же Дмитрии… отъеха въ орду къ царю Татарскому Ногою» [39] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 78.
. Наиболее концентрированно в Лаврентьевской и Симеоновской летописях титулование ордынских правителей «царями» прослеживается при описании событий в Курском княжестве, о которых уже упоминалось. В Лаврентьевской летописи говорится: «Со мною еси ко цесарю не бежал», «ти не идешь ни к своему цесарю ни к Ногою на исправу… и оуби Святослава по цесареву слову» [40] ПСРЛ. Т. І. Стб. 482.
.
В «Повести о житии Александра Невского», первоначальная редакция которой связывается с монастырем Рождества Богородицы во Владимире и, по аргументированному мнению В. А. Кучкина, написана в период с конца 1263-го по 1265 год, то есть сразу же после смерти Александра, Батый уже фигурирует с царским титулом: «В то время бе царь силен в Восточной стране…»; «По сем разгневася царь Батый на брата меншаго Андрея» [41] Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. С. 366.
.
Читать дальше
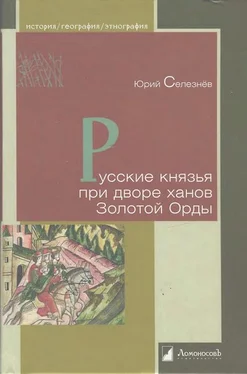
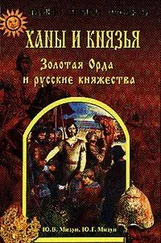

![Павел Загребельный - Русские князья. От Ярослава до Юрия [сборник]](/books/31122/pavel-zagrebelnyj-russkie-knyazya-ot-yaroslava-do-thumb.webp)