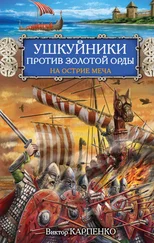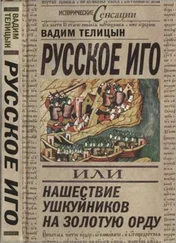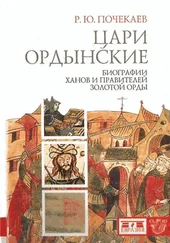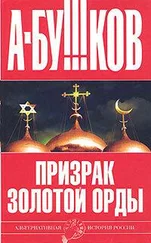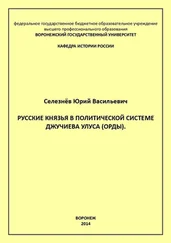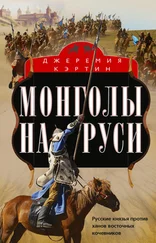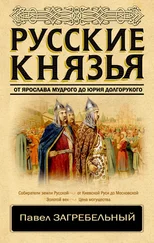Летописная традиция Северо-Восточной Руси рассматривала само нашествие как «кару Господню», а спасение виделось в смирении перед захватчиками — «бичом Божиим»; сопротивление по этой причине считалось обреченным на провал [4] См. подробнее: Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (ХІІ–ХIV вв.). С. 180.
. В связи с этим русские книжники того времени в большинстве своем просто фиксируют события, связанные с отношениями Руси и Орды.
Так, Лаврентьевская летопись, основой которой послужил свод 1305 года великого князя Михаила Ярославича Тверского [5] Кучкин В. А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников. С. 43.
, содержащая в основном владимирское летописание, отмечает под 1242, 1244, 1245 годами поездки русских князей в Орду и признание власти хана Батыя. Причем это рассматривалось в летописях как почетный и не унизительный процесс. Авторы отмечали оказанный в Орде русским князьям почет и уважение. На протяжении практически всего XIII столетия Лаврентьевская летопись (материалы которой для этого времени большей частью ростовского происхождения [6] Там же. С. 34.
) отмечает, что получить ярлык на княжение — это большая честь [7] «В лето 1243 великий князь Ярослав поеха в Татары… Батый же почти Ярослава Великою честью… и отпусти и рече ему: Ярославе буде ты старей всех князей в Русском языце»; «В лето 1244 князь Володимер Константинович, Борис Василькович, Василий Всеволодович… поехаша в Татары… Батый же почтив ю честью достойною и отпустив ю… и приехаша с честью на свою землю»; «в лето 1252 иде Александр князь Новгородский Ярославич в Татары и отпустиша и с честью великою дата ему старейшинство во всей братье его». — ПСРЛ. Т. I. Стб. 470, 473. Практически такую же характеристику ордынской чести дает «Житие Александра Невского»: в ставке Батыя Александра хан «почьстив же и честно, отпусти и». — Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. С. 366.
.
Показательно описание в летописи событий, связанных с борьбой русских князей за ярлык на великое княжество Владимирское. Например, говоря о событиях 1281 года, когда Андрей Александрович Городецкий «прииде ис Татар… ратью на брата своего стареишаго Дмитреа, истпросив собе княжение великое под братом своим» [8] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 78.
, автор прямо указывает, что верховным распорядителем княжеских столов является ордынский хан.
Наиболее яркие оценки власти ордынского хана содержатся в летописных источниках при описании событий в Курском княжестве, помещенных в Лаврентьевской и Симеоновской летописях под 1283–1284 годами. В. А. Кучкиным установлено, что эти события относятся к 1289–1290 годам [9] Кучкин В. А. Летописные рассказы о слободах баскака Ахмата. С. 48.
. Суть их в том, что ордынский откупщик дани Ахмат выступил организатором двух слобод, которые располагались в пределах Курского княжества, и туда начало стекаться местное население. Этот вызвало протест местных князей — Олега Воргольского и Святослава Липовичского. Они отправились с жалобой к хану Тула-Буге, который дал им войско для разорения слобод. Однако баскак Ахмат привел карательную экспедицию от Ногая, который возглавлял в то время второй политический центр в Орде и имел напряженные отношения с Тула-Бугой. В ходе дальнейшей борьбы князья Олег и Святослав погибли.
Описывая эти события, автор повествования неоднократно подчеркивает, что судьбами русских земель распоряжается ордынский хан: «Князь Олег иде въ орду… с жалобою къ царю Телебузе» [10] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 81.
; при описании спора князей Олега и Святослава говорится: «Со мною еси ко цесарю не бежал» и «ныне затерял еси правду мою и свою ти не идешь ни к своему цасарю ни к Ногою на исправу» [11] ПСРЛ. Т. I. Стб. 482; Т. XVIII. С. 81.
. Таким образом, верховными распорядителями земель и правом суда являются ордынские правители — хан Тула-Буга и Ногай.
В то же время галицко-волынский летописец характеризует ситуацию несколько в ином ключе. Описывая возвращение князя Даниила от Батыя, южнорусский книжник подчеркивает, что честь татарская — злее зла: «О, злее зла честь татарская! Данилови Романовичи), князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею: Кыевом и Володимеромъ и Галичем со братомъ си, инеми странами, ныне седить на колену и холопом называетъ ся! И дани хотять, живота не чаеть. И грозы приходять. О, злая честь татарьская!.. Злобе бо их и льсти несть конца. Ярослава, великого князя Суждальского, и зелием умориша, Михаила, князя Черниговьского, не покланившуся кусту, со сдрим боярином Федоромъ, ножем заклана быста» [12] Галицко-Волынская летопись. С. 256.
.
Читать дальше
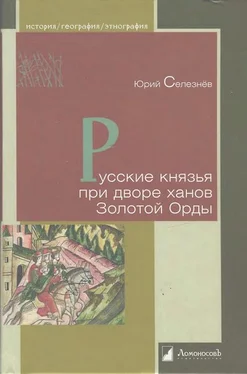
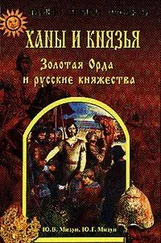

![Павел Загребельный - Русские князья. От Ярослава до Юрия [сборник]](/books/31122/pavel-zagrebelnyj-russkie-knyazya-ot-yaroslava-do-thumb.webp)