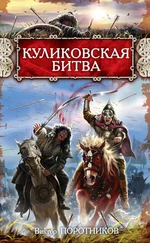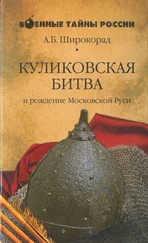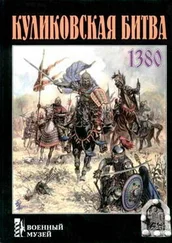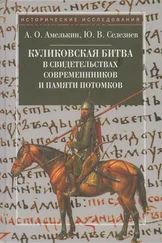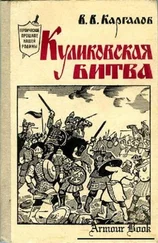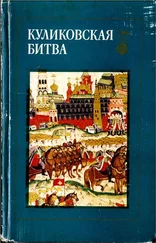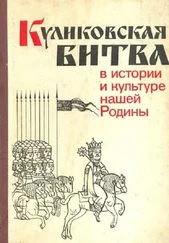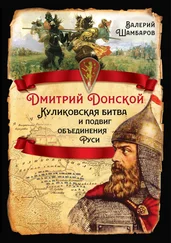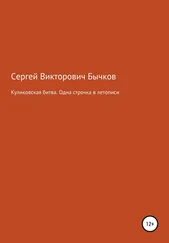[7]
См.: Путилов Б. Н . Куликовская битва в фольклоре // Труды отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы АН СССР (Далее — ТОДРЛ). Л., 1961.Т. 17. С. 107–129; Азбелев С. Н . Отзвуки Куликовской битвы в сербском и русском фольклоре // Советское славяноведение. 1970. № 6. С. 50–57; Он же . Текстологические приемы изучения повествовательных источников о Куликовской битве в связи с фольклорной традицией // Источниковедение отечественной истории. М., 1975. С. 163–190; Пушкарев Л. Н . К вопросу об отражении Куликовской битвы в русском фольклоре // Куликовская битва. Сб. ст. С. 265–274. , памятники архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства
[8] Воронин Н. Н. К характеристике архитектурных памятников Коломны времен Дмитрия Донского // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1949. № 12. С. 217–237; Померанцев Н. Н . Героическая тема в древнерусской пластике // Из истории русского и западноевропейского искусства: Материалы и исследования. М., 1960. С. 142–176; Лихачев Д. С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962; Ильин М. А . Искусство Московской Руси эпохи Андрея Рублева и Феофана Грека. М., 1976 и др.
. Среди них — замечательные творения прославленных русских художников Андрея Рублева и Феофана Грека, запечатлевших изобразительными средствами свое тревожное и славное время.
В изучении Куликовской битвы постепенно обозначились два направления.
В русле первого проводился анализ самих источников, уточнялась датировка, их происхождение, состав, степень достоверности, художественные достоинства (если речь шла о литературе), фразеология, лексика и т. д.
Другое направление представляют работы, посвященные непосредственно Куликовской битве. В них — исследование обстоятельств столкновения с Мамаем, характеристика вооружения, численности и тактики обеих сторон, результатов битвы и ее исторического значения.
Зачастую, в поисках ядра истины, в них решительно отсекалось от источников все «наносное» — различного рода сравнения событий и персонажей, выдержанные в духе средневекового мировоззрения, рассуждения о морали, лирические отступления, заведомые фантазии, искажающие исторические факты, и прочие «напластования». Вместе с ними источники лишались той связующей нити, которая вела к другим памятникам, эпохам, лицам, поступкам — ко всему тому, что составляло живую ткань общественного сознания средневековой Руси. Воссоздание этой ткани в возможно цельном виде и стало нашей задачей.
Предлагаемая читателю книга не претендует на полное освещение темы. Ее цель — дать общее представление о месте Куликовской битвы в общественной мысли Руси ХIII–ХVI вв.
В книге нет воссозданных в деталях русско-ордынских отношений. Главное — в ином: увидеть события глазами их современников, показать, как сквозь призму религиозного мировоззрения проступали реальные черты людей, их идеалы, надежды, устремления, гордость за исторические деяния предков, как в сознании народа зрела уверенность в своих силах, приведшая к полному освобождению от монголо-татарского ига.

И оттоля Русская земля седит невесела, а от Калатьская рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрышася…
Задонщина
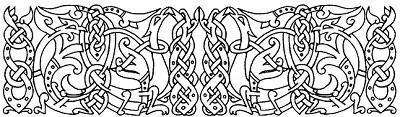
Битва на Калке
 ак туча, которую гонит ветер», шел неведомый народ на завоевание Туркестана. «И искры [этого нашествия] разлетались во все стороны и зло простиралось на всех». «Может быть, — писал арабский историк XIII в. Ибн ал-Асири, — род людской не увидит [ничего] подобного до преставления света и исчезновения мира». Обгоняя «тучи», мчались во все стороны беженцы, разнося страшные вести о потрясающей жестокости пришельцев, о бессмысленном избиении не только мужчин, но и женщин и младенцев. «В тех странах, на которые они [еще] не напали, всякий проводит ночь не иначе, как в страхе, боясь их и высматривая: не идут ли они к нему»
ак туча, которую гонит ветер», шел неведомый народ на завоевание Туркестана. «И искры [этого нашествия] разлетались во все стороны и зло простиралось на всех». «Может быть, — писал арабский историк XIII в. Ибн ал-Асири, — род людской не увидит [ничего] подобного до преставления света и исчезновения мира». Обгоняя «тучи», мчались во все стороны беженцы, разнося страшные вести о потрясающей жестокости пришельцев, о бессмысленном избиении не только мужчин, но и женщин и младенцев. «В тех странах, на которые они [еще] не напали, всякий проводит ночь не иначе, как в страхе, боясь их и высматривая: не идут ли они к нему» [9] Тизенгаузен В. Г . Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. С. 2–3 (Из летописи Ибнельсира — 1160–1253).
.
По свидетельству современника татарского нашествия и завоевания Констабля Сембата, за продвижением кочевников внимательно наблюдали кавказские народы. Когда завоеватели достигли Хорезма, «дошли до нас первые слухи и известия о татарах», — писал Сембат [10] Патканов К. П. История монголов по армянским источникам. Вып. 1. С. 65.
. Вскоре полчища «мугал» и «татар», как их называли, обошли с юга Каспийское море, прошли Железные ворота (Дербент) и, покорив народы Кавказа, вышли в южные степи Восточной Европы [11] Там же. С. 1 (Из истории Киракоса Гандзакеци).
.
Читать дальше
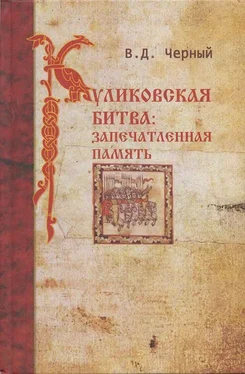

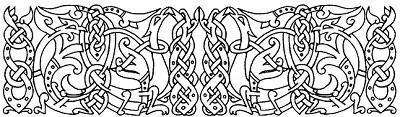
 ак туча, которую гонит ветер», шел неведомый народ на завоевание Туркестана. «И искры [этого нашествия] разлетались во все стороны и зло простиралось на всех». «Может быть, — писал арабский историк XIII в. Ибн ал-Асири, — род людской не увидит [ничего] подобного до преставления света и исчезновения мира». Обгоняя «тучи», мчались во все стороны беженцы, разнося страшные вести о потрясающей жестокости пришельцев, о бессмысленном избиении не только мужчин, но и женщин и младенцев. «В тех странах, на которые они [еще] не напали, всякий проводит ночь не иначе, как в страхе, боясь их и высматривая: не идут ли они к нему»
ак туча, которую гонит ветер», шел неведомый народ на завоевание Туркестана. «И искры [этого нашествия] разлетались во все стороны и зло простиралось на всех». «Может быть, — писал арабский историк XIII в. Ибн ал-Асири, — род людской не увидит [ничего] подобного до преставления света и исчезновения мира». Обгоняя «тучи», мчались во все стороны беженцы, разнося страшные вести о потрясающей жестокости пришельцев, о бессмысленном избиении не только мужчин, но и женщин и младенцев. «В тех странах, на которые они [еще] не напали, всякий проводит ночь не иначе, как в страхе, боясь их и высматривая: не идут ли они к нему»