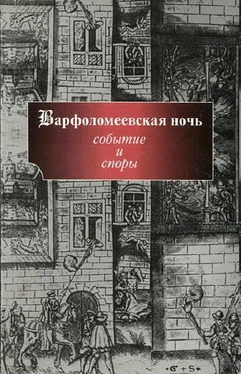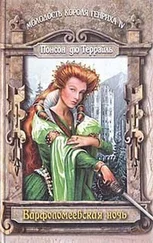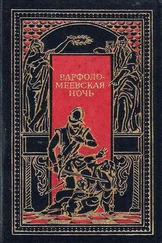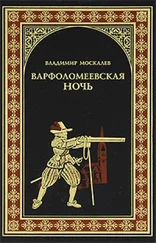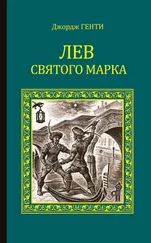Отман пытается дать и антигероя — Гиза, подчеркивая низменность целей и действий. Гиз-тиран "преследовал короля, взяв оружие в руки, возмутил государство и полностью нарушил всякое божественное и человеческое право" [354]. При этом сопоставлении автор так стремится возвысить мученика и разоблачить Гизов, что теряет всякое чувство меры, искажая всю историю войн: "Нельзя было найти более легкое средство вернуть королевство и уничтожить род Валуа, чем истребить гугенотов, защищавших его" [355]. Вся вина лежит на Гизах, Екатерине Медичи, их поддерживавшей по злокозненности своей натуры, а "Колиньи питал жалость к своему народу и его страданиям" [356].
В этой картине Отмана в целом был изменен только один штрих: Гиз не мог противостоять как антигерой мученику; на эту роль требовалась более крупная фигура. Поэтому завершает становление мифа памфлет о Екатерине Медичи [357]. Ее образ дан как само исчадие ада — преступница-итальянка, узурпатор, отравительница и даже колдунья; "славная ученица своего Макиавелли" и флорентийка ненавидела знать и "желала искоренить головы всех тех, кто мог законно противостоять нашим злым замыслам, тех, кто не мог нам помочь в злодействах и предательствах" [358].
Уже на следующий год после Варфоломеевской ночи можно говорить о формировании ведущих идей и концепции протестантского мифа в целом и мифа о Варфоломеевской ночи в частности — идея борьбы правительства против собственного народа, ксенофобия, мученичества за веру, дискредитация организаторов резни, низменность побуждений и статус убийц. В мифе широко использовались мартирологические мотивы, приемы контраста и преувеличения, идеализации или компрометации персонажей. Эмоциональный накал и обличительный пафос были вполне искренни, публицисты были убеждены в своей правоте, и их версия казалась современникам (особенно в других странах) убедительной. Так сформировался миф о Варфоломеевской ночи, созданный протестантскими публицистами и увлекший многих деятелей художественной культуры.
Совращение и бойня: "Королева Марго" Патриса Шеро
Моше Слуховски
Фильм Патриса Шеро — уже пятое воплощение на экране романа Александра Дюма о Маргарите Валуа. В 1910 г., спустя всего десять лет после выхода первого исторического кинофильма, французский режиссер Камиль де Морлон создал первую версию "Королевы Марго". Последующие появились в 1914, 1920, 1954 (с Жанной Моро) и 1961 гг. [359]Произведение Шеро удостоилось пяти призов Сезар в Канне и имело огромный успех во Франции.
Его популярность не должна удивлять. Дюма умел хорошо писать и нравиться публике и был всегда готов изменить ход повествования в угоду издательским запросам и требованиям читателей. Не будем забывать, что "Королева Марго" родилась как героиня многосерийного романа в парижском еженедельнике " La Presse " (25 декабря 1844 г.), где она заменила бальзаковских "Крестьян", наскучивших читателям. Долголетие королевы зависело от ее умения забавлять и поражать буржуазную аудиторию газеты. Поэтому Дюма создал "фабрику романов", в которой с помощью многочисленных вымышленных писателей и историков (включая Огюста Маке) производил еженедельные эпизоды. Серийное происхождение романа, как и факт сотрудничества, объясняет его эпизодическую структуру. Как заметил Шеро, "в романе заложено много мин. Мы поняли, что многие сцены удваиваются: два вскрытия, две аудиенции, две сцены с шествием короля по улицам, несколько балов" [360].
Экономическая зависимость Дюма от постоянного успеха его романов связала его личную судьбу с популярностью "Марго", и он развил успех газетных листков, переработав свой роман для сцены вскоре после завершения публикации. Пьесу впервые поставили 20 февраля 1847 г. — то была премьера "Исторического театра" Дюма. Не испугавшись 5 актов и 15 сцен, толпа простояла 24 часа на бульваре Тампль, чтобы попасть на представление, которое длилось с 9 часов вечера до 3 часов утра. Торговки разносили миски с бульоном, мальчишки — свежий хлеб, желающие прилечь могли купить связку соломы, но большинство провело ночь в разговорах, песнях или спорах с типичными предпринимателями XIX в. — gardeurs de place [361]. 10 тыс. разочарованных поклонников театра не получили билетов на премьеру, хотя "Марго" целый год собирала полные залы, и лишь революция 1848 г. положила этому конец.
В романе Дюма главная добродетель — скорее дружба, чем любовь, дружба мужская — между Ла Молем и Коконасом, перешедшими от ненависти к совместному мученичеству, — и дружба супружеская — между Генрихом и Марго. Это роман о силе, проистекающей из чистой любви и противостояния злу, олицетворенному Екатериной Медичи. Марго у Дюма — горделивая и расчетливая, но также весьма рассудительная, великодушная и прежде всего верная супруга. В целом ее характер привлекателен, силен в своих стремлениях и страстен в любви. Однако речь идет о Марго, а не о Маргарите Валуа, скорее игривой и изворотливой куртизанке, чем легендарной королеве [362].
Читать дальше