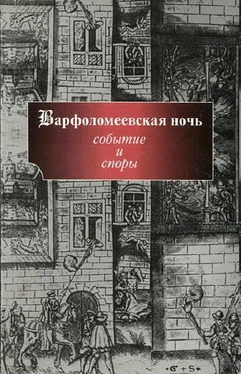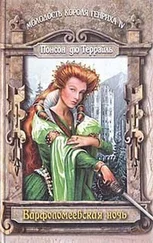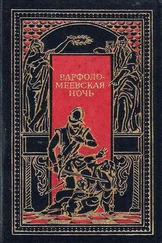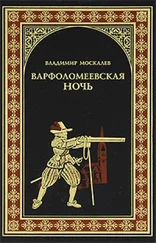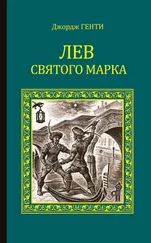Само название предполагало лишь непосредственное изложение событий резни, но Отман предварил его кратким историческим очерком судеб протестантизма во Франции. Варфоломеевская ночь предстает как кульминационный момент политики преследований правительства, руководимого узурпатором, пришлой флорентийкой, в результате чего воцарилась необузданная распущенность, а страну "одни по праву зовут Итало-Францией, другие же — колонией или обытальянской клоакой" [343]. Именно нравственным растлением и итальянским влиянием объясняет Отман появление "безграничной жестокости" и гражданских войн [344]. Итак, в основе мифа лежит идея растленности правительства, по этой причине преследовавшего верующих протестантов и верных подданных. Вторая по значению идея этого мифа — тезис об итальянском пагубном влиянии на судьбы Франции. Гонения на французов осуществляют пришельцы и люди чем-то запятнанные, соответственно использующие низменные приемы и играющие на животных инстинктах масс.
Отман недвусмысленно сводит подоплеку участия масс в резне к агитации и подстрекательству со стороны знати: "Гиз, Монпансье, шевалье-бастард Генриха Гонзаго, Таванн натравливали народ, чтобы тот убивал и резал в надежде на воровство и грабеж, что им и обещали" [345]. Все эти лица сами запятнаны — Гиз, Таванн, Гонзаго (герцог Невер) — чужестранцы, герцог д’Ангулем — незаконнорожденный, Монпансье — родной племянник изменника коннетабля Бурбона; недостойные люди и подбивают чернь, обещая награду.
Не менее любопытна трактовка деятельности парижского населения; Отман сужает социальную базу — в резне участвуют только чернь, деклассированные элементы: "крючники, народные низы, кучка негодяев", с одним единственным побуждением — резать и грабить [346]. Отман рисует жуткие картины: чернь, воспламененная грабежом и насилиями, держа в окровавленных руках оружие, не прекращает воровство и резню, не щадя ни старцев, ни женщин, ни детей [347]. Вслед за резней следовал грабеж, и "400 домов было разграблено". То есть идейно-политическое значение и цели католиков благодаря подобному мотиву резко снижаются, активность деклассированных элементов позволяет автору сделать вывод: "Убивать людей, лишать их жизни без суда и причин — дело разбойников" [348]. Но ему приходится оценить и позицию власти; Екатерина Медичи для него — пособница и вдохновительница убийц, но о короле Отман высказывается более осторожно; главную вину его он видит даже не в жестокости, а в предательстве доверившихся ему людей и коварстве; он сравнивает его с другими государями: с его точки зрения, даже Сицилийская вечерня или казни Митридата не могут идти в сравнение, поскольку "другие государи направляли свою жестокость против людей, не желавших признавать их государями, а здесь король выступил против своих граждан и прирожденных подданных, которые подчинялись ему в силу верности и лояльности, а не из страха" [349]. К сочинению было приложено и другое: для сравнения давалось описание жестокости и коварства Кристиана II Датского во время Стокгольмской Кровавой бани, и клеймо тирана переносилось на Карла IX. Вывод был ясен — "имя государя обесчещено постыдным предательством", "Варфоломеевская ночь — нарушение законов нации", "нация обесчещена, запятнана двумя мерзкими пороками — коварством и жестокостью" [350].
Именно здесь подобраны самые страшные детали резни (примеры брались не только в Париже) — 100 тыс. зарезанных, измывательства над детьми, надругательство над трупами (расчленение тела Колиньи), бросание беременных в реку, избиение младенцев, сжигание заживо на кострах… На страшном огненном и кровавом фоне вырисовываются фигуры ничтожеств-убийц и коварного предателя короля. Так был создан миф о "холокосте", обусловленном сугубо низменными мотивами [351].
Но мартирологический элемент в этом сочинении не мог присутствовать в полном объеме — принцип мартирологии требовал героя-мученика, и этот миф был создан в биографии Колиньи. Его жизнь излагается в традициях агиографической литературы. Прежде всего следует отметить тезис о преображении человека после принятия им веры истинной — из распущенного вольнодумца он превращается в сурового аскета, почти святого, вызывая всеобщее уважение и поклонение [352]. Образ Колиньи наделен всеми социальными добродетелями: справедливостью, авторитетом, мудростью, ясным умом, воинской и гражданской доблестью [353]; описание его смерти (а Отман не имел сведений от свидетеля — пастора Мерлена, как С. Гулар) показывает величие и торжество духа, достойные венца мученика, резко контрастируя с суетой католиков в данной сцене.
Читать дальше