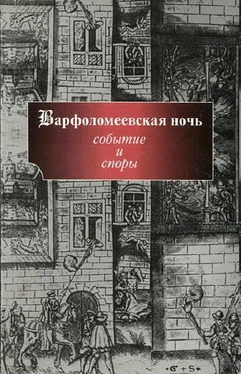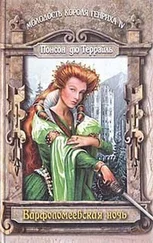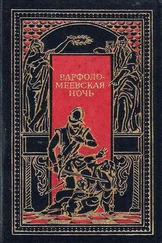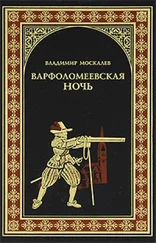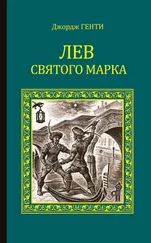— королю и королеве, дофину и дофине, проходя по символическому пути, связывающему аббатство Сен-Дени с главной церковью Нотр-Дам через аббатство Сен-Лазар и ворота Сен-Дени;
— полномочным представителям суверенной власти — губернаторам и генеральным лейтенантам (они выбирали ворота для въезда по своему усмотрению), а также посланцам иной наивысшей власти — папским легатам, которых встречали в предместье Сен-Жак;
— епископам Парижским, приветствуемым в аббатстве Сен-Марсель.
Генеральная процессия, носившая искупительный или благодарственный характер, отмечала события королевской, церковной или общинной истории. Церемониал одновременно почитал Бога и короля во имя прославления парижской общины, которая переносила собственную организацию на свои ритуалы.
И все же церемониал страдал от некоторой неполноты из-за отсутствия тождества ритуала и юридической идеи. Поэтому наш анализ вскрывает некий парадокс: в отсутствие идеального типа парижская церемониальная система начала терять свой смысл сразу, как только обрела его. Сформировавшись в нелегких условиях в XV в., она вырабатывала свою репрезентативную логику (разделяемую как городом, так и Парламентом) при Карле VIII и особенно при Людовике XII, который, возможно, и обязан своим титулом "отец народа" молчаливому признанию корпоративной концепции королевства. Но с тех пор традиция не изобрела ничего нового, и парижский церемониал повторялся вплоть до Карла IX. Этот король предпринял впечатляющую попытку восстановить корпоративное согласие при помощи церемониального цикла 1571 г., когда он организовал свой запоздалый "торжественный въезд" и процессию возвращения реликвий в Сен-Дени. Но Варфоломеевская ночь означала крушение этой мечты [328].
Генрих III порывает с традиционной церемониальной системой, и разрыв был закреплен при Генрихе IV. В ходе этой ритуальной революции меняет свой смысл сама дефиниция "парижский буржуа". "Персональная" компонента этого понятия, подчеркивающая связь с королем как с источником любых привилегий, возобладала над "реальной" компонентой, выражавшей связь с городской территорией. Ранее эта "реальная" связь сплачивала горожан вокруг церемониальной системы как метафорического выражения самовоспроизводящихся городских привилегий и свобод, которые не зависели от воли того или иного монарха [329]. "Реальность" городской привилегии покоилась на убеждении в том, что город "не умирает никогда", по аналогии с "политическим телом короля". "Персональная" концепция привилегий буржуа не имела ни подобных оснований, ни подобных политических последствий.
Гражданский смысл парижской символики был связан с органицистско-корпоративной концепцией французской монархии. "Процессия дожей была конституцией", — сказано о Венеции [330]. Во Франции, однако, эта "конституция" не могла рассматриваться вне того специфического значения, которое могла придать этому слову метафора "политического тела". Прослеженная нами эволюция церемониальной системы имела в большей степени религиозные, нежели политические причины, хотя потеря средневекового холистского (т. е. такого, где целое безусловно превалирует над частями, его составляющими) значения слова ecclesia и может быть поставлена в связь с успехами территориальной монархии. Но глобальный кризис корпоративного католицизма прежде всего затронул связи людей с сакральным.
Тридентский собор сам по себе не оказал сразу же большого влияния на этот процесс: постановление от 2 декабря 1563 г. о молитвах и поклонении реликвиям и образам святых ограничилось лишь осуждением некоторых суеверий и излишеств. Но собор положил начало контрреформационным преобразованиям, направленным, как и протестантские реформы, против корпоративного католицизма в пользу более интериоризированной веры, освобожденной от мистического напряжения, связывающего индивида со своей общиной. Протестантские и католические реформы предложили новые формы индивидуального благочестия, в некотором смысле выражавшие перенос отношений подданного с сувереном на отношения верующего с Богом.
Все же не представляется возможным вписать данное скромное исследование в величественную интерпретацию Религиозных войн, предложенную Дени Крузе. От социальных подходов непросто перейти к видению индивидуальной и коллективной психологии, претендующему на всеобщее значение. Если согласиться с главной посылкой Дени Крузе о том, что религия является в последней инстанции делом индивидуальной совести, то следует задаться вопросом, где формируется этот религиозный выбор:
Читать дальше