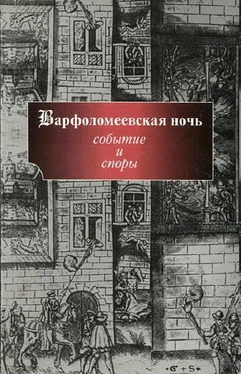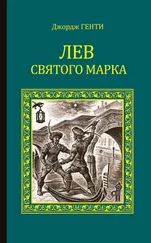Но чистая Марго, как показывает Шеро вслед за Дюма, вполне может стать второй Екатериной. Ее манипуляции и яростная независимость напоминают характер матери. Наглядные образы усиливают это сравнение. Королева-мать покрыта кровью во время сеанса некромантии, который предрекает гибель и упадок дома Валуа; Марго покрыта кровью своего брата, когда он умирает в ее объятиях, так что исполняется первая часть пророчества. Она также покрыта кровью, когда бродит по улицам после Варфоломеевской ночи и ухаживает за раненым Ла Молем. Но даже если от зрителя ускользает сравнение матери с дочерью, Марго сама напоминает своему любовнику, что она Медичи, как и ее мать, а потому искушена в магических исцелениях и умерщвлениях. Наконец, она покрыта кровью и когда появляется в последний раз — в карете, увозящей ее в Наварру. Настоящая любовь для Марго, как для вампира, всегда окрашена кровью.
В последней сцене фильма Марго уезжает из Парижа, следуя за своим мужем в Наварру. Она лишилась всего — любовника, любимого брата, двора, фрейлин и подруг. Но она счастлива — она достигла самовыражения и, еще важнее, при ней отрубленная голова Ла Моля, фетиш ее любви или, скорее, фетиш ее власти над мужчинами, исполнения и подтверждения худшей молвы о ней. Как и следовало ожидать, единственная для Марго возможность истинной любви привела к насилию и смерти. Как и прежде, она неприступна, погружена в себя и полностью владеет собой. Истинная любовь растворяется в самолюбии.
* * *
Как я уже говорил, у Шеро было две цели. Вторая состояла в том, что он назвал "современностью" Варфоломеевской ночи. Но и здесь оперное прошлое Шеро оборачивается против него. Как всегда, режиссер не оставляет простора воображению. Бойня Варфоломеевской ночи изображена в ярких подробностях. Около 6000 трупов, в основном нагих и сваленных в груды, гниют на улицах или сбрасываются в общие могилы. Сходство с еврейскими жертвами фашизма слишком очевидно. Я не уверен, что стоило проводить столь прямую параллель между эпохой Возрождения и Освенцимом, но судьба евреев, бесспорно, владела сознанием Шеро. В один из немногих спокойных эпизодов фильма Шеро вводит банкира Мендеса, испанского еврея, который представляет собой единственный голос разума во всей картине, осуждающий религиозную нетерпимость и предостерегающий о ее последствиях. Еврейский подтекст усиливается музыкой. Самые страшные ужасы сопровождаются протяжным остинато из иудейских причитаний.
Сьюзен Сонтаг, возможно, имела в виду изображение Варфоломеевской ночи у Шеро, когда писала: "Убедительно воссоздать зверство — это риск сделать аудиторию пассивной, усилить бездумные стереотипы, утвердить дистанцию и создать бессилие" [372]. Превращение бойни в гигантский спектакль делает Шеро уязвимым для обвинений в эстетизации политики, которая для Уолтера Бенджамина являлась высшей стратегией фашизма [373]. Прекрасная кинематография Филиппа Русело и нагромождение изуродованных и изнасилованных тел подтверждают определение китча, данное Солом Фридлендером. Язык китча, по его словам, "связан с нагромождением, повторами и излишеством… и повторение создает своего рода гипноз" [374]. Все морализирующие, отстраненные приемы, которые Шеро использует в фильме для противовеса, рушатся перед лицом подлинно кинематографического удовольствия — смотреть. Внимание зрителя переключается с воссоздания бойни и ужаса на пленительные образы и виртуозность камеры. Но дело еще и в другом. Согласно Сьюзен Сонтаг, "показ зверства в фотографической форме рискует стать скрыто порнографическим" [375]. Тем более когда образы смерти и зверств чередуются с "реальными" порнографическими сценами, как у Шеро.
Вначале я назвал свой доклад "Совращение и бойня", имея в виду успех Дюма в переплетении истории ужасов с историей любви. Теперь я понимаю, что "совращение" относится гораздо более к Шеро, который возбуждает фантазии, тревоги и желания своих зрителей. Это делали мелодрама и опера в XIX в., это делают мыльные оперы в XX. Конечно, ничего предосудительного здесь нет, но похвальные цели режиссера тем самым отнюдь не достигнуты. Мыльные оперы по крайней мере непритязательны.
История, жизнь, игра?
(Об экранизации романа А. Дюма "Графиня де Монсоро" в России)
Марина Станиславовна Бобкова
Чувство истории —
Только чувство судьбы.
М. Цветаева
В 1993 г. в России была задумана экранизация трилогии Александра Дюма "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять". Это не первый опыт обращения отечественного кинематографа к произведениям Дюма. Вероятно, все помнят мьюзикл с Михаилом Боярским в роли д’Артаньяна по мотивам романа "Четыре мушкетера", который никакого отношения к реальной истории Франции XVII в. не имеет. Почему в России конца XX в. обратились к истории Франции XVI? Сергей Жигунов, продюсер всего проекта, в своем интервью журналу "Огонек" в октябре 1996 г. на вопрос, почему именно Дюма выбрали для первой масштабной мыльной оперы в России, ответил: "Беспроигрышность. Такая драматургия хороша для невдумчивого просмотра вечерочком. Задача была очень простая — сделать достаточно успешную развлекательную картину с русской командой". Эта задача оказалась невыполнимой ни для "Королевы Марго" (режиссер Александр Муратов) с ее звездным актерским составом, ни для "Графини де Монсоро" (режиссер Владимир Попков). И изначально не могла быть выполнена: видимо, продюсер плохо представлял себе, с какой исторической эпохой ему предстоит иметь дело и что разыграть комедию на фоне проливающихся потоков крови и слез не удастся. Думается, что причины обращения к истории Религиозных войн во Франции и судьбам людей того времени определялись потребностью самосознания современного общества в саморефлексии.
Читать дальше