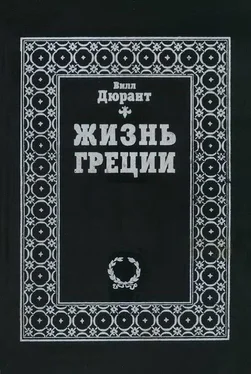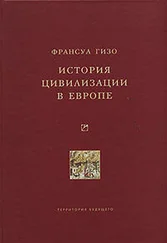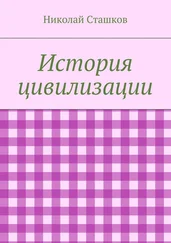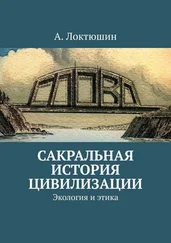Мы оставили напоследок самого беспокойного, самого популярного из греческих богов, труднее всех поддающегося классификации. Дионис был принят на Олимпе. Во Фракии, которая поднесла Греции этот Данайский дар, он был богом напитка, сваренного из ячменя, и носил имя Сабазий; в Греции он стал богом вина, питающим и оберегающим виноградную лозу; вначале он был богом плодородия, затем богом опьянения, наконец, сыном бога, умирающим, чтобы спасти человечество. В создании мифа о Дионйсе смешались многие персонажи и легенды. Греки думали о нем как о Загрее, «рогатом дитяте», которого родила Зевсу его дочь Персефона. Загрей был любимцем отца и усаживался рядом с ним на небесном троне. Когда ревнивая Гера подговорила титанов его убить, Зевс, чтобы скрыть сына, превратил его в козла, затем в быка; в этом образе титанам все-таки удалось его схватить: они разорвали тело Загрея на куски и сварили их в котле. Афина спасла сердце дитяти и отнесла его Зевсу; Зевс отдал сердце Семеле, которая от него забеременела и подарила второе рождение богу, названному теперь Дионисом [663] Диодор Сицилийский ещё в 50 году до нашей эры интерпретировал это предание как вегетационный миф. Загрей, виноградная лоза, — дитя земли, Деметры, оплодотворенной дождем, или Зевсом. Виноградную лозу, как и бога, подрезают, чтобы дать ей новую жизнь, а сок винограда варят, чтобы произвести вино. Из года в год питаемая дождем виноградная лоза возрождается вновь (Диодор, III, 62.). Геродот находит так много сходства между мифами о Дионисе и Осирисе, что отождествляет обоих богов в одном из первых очерков по сравнительному религиоведению (Геродот, II, 49–57.).
.
Оплакивание гибели Диониса и радостное празднование его воскресения стали существом обряда, получившего в Греции чрезвычайно широкое распространение. Весной, когда зацветает виноградная лоза, гречанки уходили в горы навстречу богу, восставшему из мертвых. Два дня они безудержно пили и, как и наши менее религиозные кутилы, считали безумцем всякого, кто не утратил ума. Они сбивались в дикое шествие под предводительством менад, или безумиц , посвященное Дионису; они напряженно вслушивались в хорошо им известное сказание о страстях, смерти и воскресении бога; пьянея и пускаясь в пляс, они впадали в исступление, освобождающее от всех оков. Кульминация и центр этой церемонии наступали тогда, когда женщины набрасывались на козла, быка, иногда на человека (видя в них воплощения бога), разрывали жертву на куски в память о расчленении Диониса, затем выпивали ее кровь и пожирали плоть, принимая священное причастие, благодаря которому, верили они, в них входил и овладевал их душами бог. Охваченные божественным исступлением (энтузиазмом [664] От слова entheos , «с богом внутри»; «энтузиазм» первоначально означал «одержимость божеством».
), они верили, что составляют единое целое с богом в мистическом и ликующем слиянии с ним; они принимали его имя, называясь по одному из его прозвищ вакханками ( Bacchoi ), и знали, что теперь никогда не умрут. Свое состояние они именовали также экстазом, «исступлением» души навстречу Дионису; он чувствовали, что освободились от бремени плоти, что на них снизошло божественное озарение и способность к пророчеству, — что они стали богами. Таков был тот экстатический культ, что, подобно средневековой религиозной эпидемии, проник из Фракии в Грецию, отвоевывая одну область за другой у холодных и светлых олимпийцев государственной религии для веры и ритуала, утолявших жажду восторга и освобождения, стремление к энтузиазму и одержимости, мистицизму и тайне. Дельфийские жрецы и афинские правители пытались воспрепятствовать распространению этого культа, но потерпели неудачу; все, что они могли сделать, — причислить Диониса к олимпийцам, эллинизировать его и очеловечить, посвятить ему государственный праздник и преобразовать разгул вакханок из безумного, опьянелого исступления между холмов в величественные шествия, грубоватые песни и возвышенную драму Великих Дионисий. На время они подчинили Диониса Аполлону, но в конце концов Аполлон уступит наследнику и победителю Диониса — Христу.
По существу, греческая религия знала три элемента и три стадии: хтоническую, олимпийскую и мистериальную. Первая имела, скорее всего, пеласго-микенские корни, вторая — вероятно, ахейско-дорийские, третья — египетско-азиатские. Первая традиция почитала подземных, вторая — небесных, третья — воскресших богов. Первая была наиболее популярна среди бедноты, вторая — среди людей состоятельных, третья — в низах среднего класса. Первая господствовала в догомеровскую, вторая — в гомеровскую, а третья — в послегомеровскую эпоху. Во времена Периклова Просвещения самым мощным элементом греческой религии были мистерии. В греческом смысле слова, мистерия представляла собой тайную церемонию, во время которой раскрывались священные символы, совершались символические обряды; в ней участвовали только посвященные. Обычно обряды воспроизводили или напоминали в полудраматической форме страсти, смерть и воскресение бога, обращались к древним вегетационным темам и магии и обещали посвященным личное бессмертие.
Читать дальше