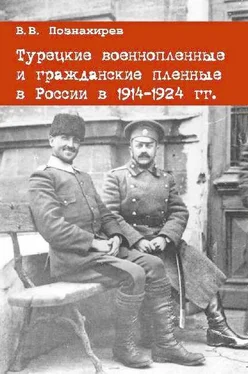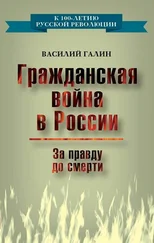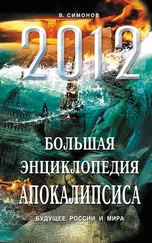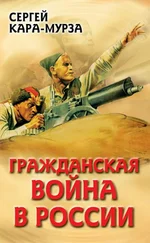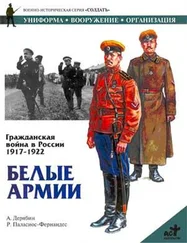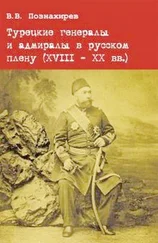В сущности, проблему координации удалось решить только на исходе войны, в апреле 1918 г., с учреждением в составе Наркомата по военным делам Центральной Коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), создаваемой «для согласования, объединения и направления деятельности всех учреждений и организаций, ведавших до настоящего времени делами о военнопленных, гражданских пленных, заложниках и беженцах, для руководства всеми делами, возникающими в отношении лиц, перечисленных категорий» [17] Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (СУиР РиКП). 1918. № 34. Ст. 451.
(10 марта 1920 г. Центропленбеж был реорганизован в Центральное управление по эвакуации населения (Цэнтрэвак) НКВД РСФСР).
2) «Положение о полицейском надзоре», указанное в Таблице 2 в качестве основного акта, регламентирующего правовой статус военнообязанных и военнозадержанных, конечно же, не могло компенсировать отсутствие «Положения о гражданских пленных». И хотя потребность в таком документе российское военно-политическое руководство впервые осознало еще в период Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., разработан он так никогда и не был. Ни к 1812 г., ни к 1918 г.
Что же касается тех данных Таблицы 2, которые отражают именно особенности правового положения подданных Оттоманской империи, то здесь, как мы полагаем, необходимо обратить внимание на следующее:
а) Одним из условий предоставления туркам разного рода преимуществ являлось их христианское вероисповедание, тогда как льготный режим австро-венгерских и германских пленных, напротив, детерминировался исключительно национальной принадлежностью или, используя терминологию тех лет: «славянским, французским, румынским и итальянским происхождением». Причем характерно, что такой подход начал оформляться уже 21 октября 1914 г., когда Совмин потребовал «при разрешении ходатайств турецких подданных о перечислении в русское подданство руководствоваться теми же правилами, кои применяются в однородных случаях к германским, австрийским и венгерским подданным, приравнивая турецких христиан к состоящим в неприятельском подданстве славянским, французским и итальянским уроженцам». Более того, в дальнейшем, при рассмотрении тех или иных вопросов, связанных с положением в России гражданских пленных Центральных держав, это требование Советом Министров не единожды подтверждалось [18] РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 838. Л. 42; Оп. 20. Д. 84. Л. 5; РГВИА. Ф. 1558. Оп. 9. Д. 9. Л. 3–4; РГА ВМФ. Ф. 609. Оп. 2. Д. 569. Л. 9–10, 14, 36; ГАКО. Ф. Р-322. Оп. 1. Д. 35. Л. 5.
.
Аналогичную позицию занимало и МВД, которое, начиная с 23 октября 1914 г., неоднократно уведомляло губернаторов о нежелательности высылки благонадежных турецких христиан во внутренние регионы страны и вообще, о неприменении к ним «каких-либо стеснительных мер» [19] РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1872. Л. 73; РГА ВМФ. Ф. 609. Оп. 2. Д. 569. Л. 36–37, 39; ГАКО. Ф. Р-322. Оп. 1. Д. 2. Л. 21; Д. 35. Л. 4, 6; ГАЯО. Ф. 73. Оп. 9. Д. 659. Л. 67–68.
.
б) Если политика Совмина и МВД, направленная на создание преимуществ для пленных славян и представителей приравненных к ним национальностей, в основе своей разделялась Военным министерством, то любые инициативы по предоставлению каких-либо привилегий христианам из числа именно турецких военнопленных названное ведомство категорически отвергало (по крайней мере, до начала 1917 г.). Такая поляризация не раз вызывала протесты и нарекания. В ходе войны они исходили от армянских организаций России; после ее окончания — от армянских историков [20] См., например: Акопян С.М. Западная Армения в планах империалистических держав в период Первой мировой войны. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1967. — С. 186.
.
Однако в действительности приведенный факт не содержал в себе ничего сверхординарного. «Привилегированные» национальности среди военнопленных европейских государств существовали в нашей стране и в период войны с Наполеоном 1812–1814 гг., и в период Семилетней войны 1756–1763 гг., и гораздо ранее. Точно также и более либеральное отношение к подданным Оттоманской империи из числа христиан, вплоть до освобождения их из плена, широко практиковалось, начиная, по крайней мере, с Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Правда, практиковалось оно при одном непременном условии: если христиане эти «не были в службе неприятельской» , чего, разумеется, нельзя сказать о лицах рассматриваемой категории.
Одно из основных последствий такого подхода мы видим в том, что Россия, вольно или невольно, не внесла никакого вклада в раскол военнопленных Оттоманской империи по этноконфессиональному признаку и никак не способствовала обострению среди них межнациональной напряженности, являвшейся, увы, неотъемлемым спутником пребывания в русском плену подданных Германии и, особенно, Австро-Венгрии. Этот же подход, как представляется, предотвратил формирование у мусульманского большинства психологии изгоев, а в конечном итоге — стал одной из причин довольно вялого участия турецких подданных в «русской смуте» 1918–1921 гг.
Читать дальше