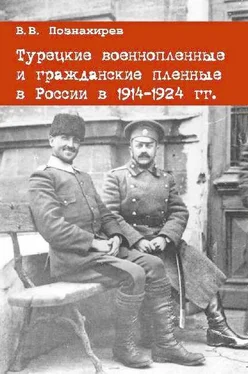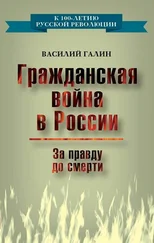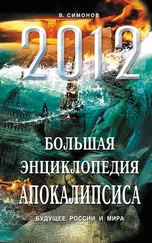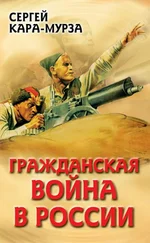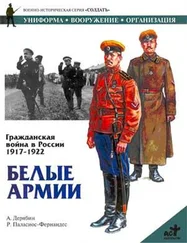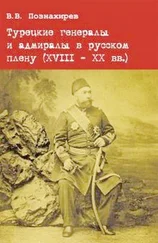б) лиц, проходящих военную службу в запасе в форме периодических сборов (либо переподготовки ) в качестве военнообязанных ( запасных ).
Такой подход, в общем-то, не был лишен известной логики и не противоречил ст. 3 IV Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 г. (далее — «IV Гаагская конвенция»). Значение же его состояло в том, что он позволял вступающему в войну государству задерживать оказавшихся на его территории подданных враждебных держав из числа военнообязанных, способствуя тем самым:
— подрыву оборонной мощи противника путем сокращения имеющегося у него контингента лиц призывного возраста;
— предотвращению передачи врагу сведений, составляющих военную и государственную тайну, носителем которых мог оказаться военнообязанный;
— легитимизации в обстановке военного времени как статуса самого военнообязанного, так и налагаемых на него правоограничений, что приобретало особое значение в условиях отсутствия в действующем международном праве института гражданского плена.
Разумеется, данный процесс не обошел стороной и Россию. Так, уже первые циркулярные указания Главного управления Генерального штаба (ГУГШ), Министра внутренних дел и штаба Отдельного корпуса жандармов, направленные в органы военного и гражданского управления в период с 23 по 29 июля 1914 г., предписывали: «всех военнообязанных германских подданных задерживать как военнопленных»; «все германские и австро-венгерские подданные, числящиеся на действительной военной службе, считаются военнопленными и подлежат немедленному аресту <���…>. Запасные чины также признаются военнопленными и высылаются из местностей Европейской России и Кавказа»; «все австрийские и германские подданные мужского пола от 18 до 45 лет должны считаться военнопленными» и т. п. [8] ГАКО. Ф.1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 12, 14, 60.
Свое окончательное подтверждение такой подход получил в уже упомянутом ранее Высочайшем указе от 28 июля 1914 г. «О правилах, коими Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года». Как следует из п. «б» ст. 1 данного акта, властям в регионах предписывалось «задержать подданных неприятельских государств, как состоящих на действительной военной службе, так и подлежащих призыву, в качестве военнопленных и предоставить подлежащим властям высылать подданных означенных государств, как из пределов России, так и из пределов отдельных ее местностей, а равно подвергать их задержанию и водворению в другие губернии и области» [9] СУиРП. 1914. № 209. Ст. 2104.
.
Однако в силу целого ряда причин социально-политического и экономического характера, полное отождествление военнопленных и военнообязанных оказалось на практике целью труднодостижимой [10] В частности, такое отождествление неизбежно влекло за собой рост затрат государства на транспортное, квартирное, продовольственное, финансовое, вещевое, медико-санитарное и иные виды обеспечения сотен тысяч «гражданских военнопленных».
. Да и, в общем-то, не слишком желанной. Поэтому еще на исходе июля 1914 г. Совмином было высказано суждение, что «принудительное выселение всех без разбора подданных враждующих с нами держав не согласовывалось бы с широкими государственными интересами». Одновременно высший орган исполнительной власти подчеркнул, что в каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться индивидуально, «в соответствии как с личными качествами отдельных подданных враждующих с нами государств, так и с расположением данной местности, близостью ее к театру войны, состоянием в осадном или военном положении и т. п. (Курсив наш — В.П.) » [11] РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 73. Л. 12–13.
.
В этой связи ключевые ведомства — военное и внутренних дел — уже к 10 августа 1914 г. достигли соглашения о том, что военнообязанные «будут находиться в ведении МВД», а Военное министерство станет «распоряжаться только военнопленными, взятыми на театре военных действий». Правда, такое соглашение вызвало возражения со стороны Минфина и морского ведомства. И лишь 2 сентября Правительство окончательно поставило в данном вопросе точку, признав, что представленный Военным министром проект нового Положения о военнопленных «распространяется исключительно на лиц, захватываемых на полях сражений, и совершенно не касается тех проживающих в Империи неприятельских подданных, которые подлежат воинской службе в рядах враждебных нам армий и на этом основании задерживаются распоряжением Министра внутренних дел в качестве военнопленных» [12] РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 732. Л. 35; Оп. 20. Д. 74. Л. 21; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 9. Д. 22. Л. 622об.; РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 4395. Л. 219–221; ГАКО. Ф.1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 104.
.
Читать дальше