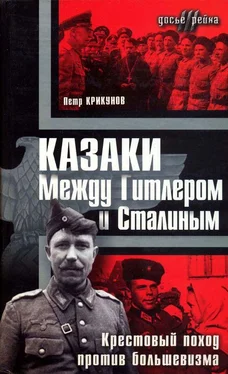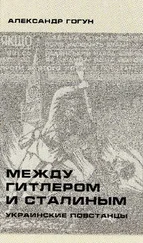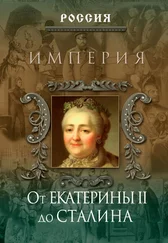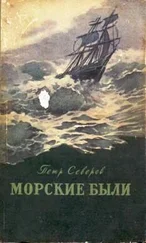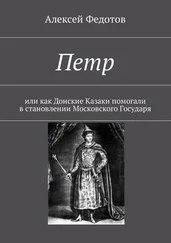Немецкая администрация ввела огромное количество самых разных налогов, которые буквально разоряли и без того нищие казачьи хозяйства. Сразу же после Нового года, 7 января 1943 г., для всех оккупированных казачьих территорий были установлены строго регламентированные нормы сдачи молока, выполнить которые было практически невозможно. «На основании указания Командования Областного сельскохозяйственного управления, — говорилось в приказе, — настоящим доводим до сведения всех держателей коров о нижеследующем: 1. Норма сдачи молока на 1-й квартал 1943 года (январь, февраль, март) Молочному комбинату устанавливается в количестве 100 литров в течение квартала. 2. При наличии второй коровы и больше — с каждой второй и последующей в 1-м квартале устанавливается норма сдачи по 150 литров» [257] Голос Ростова. 1943. № 2 (61). 7 января. С. 4.
.
Крестьяне, не выполнявшие поставок, подвергались наказаниям в виде штрафов и конфискаций. Так, например, за невыполнение нормы сдачи молока полиция конфисковала коров как «немолочных». Чтобы не допустить сокращения поголовья скота, всем владельцам запрещался самостоятельный убой, специальными распоряжениями было запрещено продавать птицу, позже последовали запреты на продажу рогатого скота, свиней, муки и зерна. Таким образом, оккупационные власти стремились контролировать продовольственные ресурсы не только колхозов, но и личных хозяйств, лишая их владельцев права распоряжаться личным имуществом. Помимо обязательных поставок, оккупанты нередко прибегали к дополнительным реквизициям продовольствия и имущества крестьян.
Если бы дело касалось исключительно молока и прочих продуктов, это еще можно было стерпеть, но немцы заставляли платить за все, — даже счастливые обладатели «четвероногих друзей» вынуждены были раскошеливаться. К сентябрю 1942 года дворняжка стоила 50 рублей в месяц (примерно 5 рейхсмарок), а породистая собака в два раза дороже [258] РГАСПИ. Ф. 69. ОП. 1. Д. 1045. Л. 38.
. Кроме того, казаков сильно раздражали различного рода приказы и постановления, которые ущемляли их человеческое достоинство и природную гордость. В некоторых городах, например в Майкопе, для передвижения по городу было необходимо иметь на правом рукаве белую повязку с черной полосой посередине, при этом в город без особого разрешения можно было попасть исключительно до 19.00 [259] РГАСПИ. Ф. 69. ОП. 1. Д. 1045. Л. 1–4.
. На всей территории Краснодарского края местные власти без оформления соответствующих документов запрещали ловить рыбу и рубить плодовые деревья. Населению строжайшим образом воспрещалась охота, а за самогоноварение налагался штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Но все же особое недовольство у казаков вызвал запрет немецких властей на роспуск колхозов. Тем более что многие из тех, кто проявил инициативу и самовольно распустил ненавистные образования, были строго наказаны: вплоть до порки, арестов и даже расстрелов.
Политика восточного министерства в аграрной области на оккупированных территориях была сложной и во многом непоследовательной. Так, в 1941 году в целях захвата богатого колхозного урожая немецкие оккупационные власти, несмотря на все свои обещания, полностью сохранили принцип коллективного труда и не предпринимали даже малейших попыток изменить существующий строй. Военные комендатуры повсеместно издавали приказы: «Уборку и обмолот хлебов производить существующим до сего времени порядком, т. е. коллективно» [260] Цит. по: Соколов Б.В. Оккупация. М., 2002. С. 314.
.
15 февраля 1942 года Альфред Розенберг подписал документ под названием «Новый аграрный порядок», в котором предусматривалось преобразование всех колхозов в общинные хозяйства, подчиняющиеся немецкой администрации, совхозы переименовывались в государственные имения, а МТС — в сельскохозяйственные опорные пункты. Суть этого закона сводилась к следующему: отменялись все законы и декреты советского правительства, касающиеся коллективных хозяйств; земля переходила в ведение германского сельскохозяйственного ведомства и должна была обрабатываться крестьянскими общинами под руководством управляющих. То есть даже те отдельные «правильные» крестьяне, которые уже получили для индивидуального пользования бывшую колхозную землю (в некоторых местах особо отличившихся поощряли небольшими земельными наделами), разделенную на полосы, обязаны были объединяться в товарищества по обработке земли, а по сути — в те же коллективные хозяйства. Единственным (и весьма сомнительным) преимуществом этой системы землепользования перед советской было то, что крестьянин мог иметь небольшой приусадебный участок, официально не облагаемый налогами (военные реквизиции не в счет), и держать некоторое количество скота. И лишь в далекой перспективе планировалось создание сельскохозяйственных кооперативов, представляющих собой объединения индивидуальных хозяйств, из которых впоследствии должны были естественным путем выделиться частные единоличные хозяйства. Все это, однако, было весьма далекой перспективой.
Читать дальше