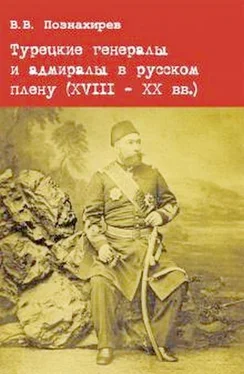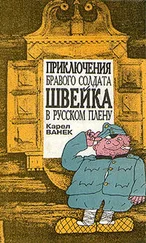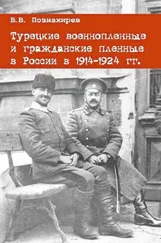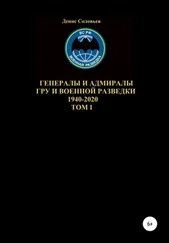Законы в общих чертах определяли права, обязанности и пределы юридической ответственности пленных генералов; порядок и правила их финансового, продовольственного, квартирного, вещевого, транспортного и медико-санитарного обеспечения; обязанности российских органов управления и должностных лиц, связанные с эвакуацией и интернированием османских военачальников и т. п. Однако необходимо подчеркнуть, что на законодательном уровне правовое положение пленных в полной мере начало регулироваться лишь в период Крымской войны 1853–1856 гг., т. е. уже на заключительных этапах русско-турецкого вооруженного противостояния [18] Первое в отечественной истории Положение о пленных вступило в силу лишь 9 июля 1829 г., т. е., менее чем за два месяца до окончания Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. (2 сентября 1829 г.) и уже поэтому существенной роли в регулировании вопросов содержания пленников сыграть не могло.
.
V. Указы высших органов власти и государственного управления вплоть до середины XIX столетия оставались главнейшими источниками правовой регламентации режима содержания в России иностранных пленников, особенно из числа высокопоставленных лиц. При этом (что касается последних) ведущая роль здесь принадлежала актам строго адресного, персонифицированного характера, исходящим непосредственно от главы государства !
Такой подход был традиционен для отечественной системы управления военнопленными. К примеру, еще в ноябре 1672 г. царь Алексей Михайлович, «сведав» о том, что донские казаки «ходили под Азов», где «в полон взяли азовского паши брата», который теперь находится у них «на окупу на двух тысячах рублях», писал в своей указной грамоте Донскому войску: «И как к вам ся наша Великого Государя грамота придет, <���…> И вы б, атаманы и казаки <���…> азовского паши брата, также и иных вязней, которые у вас взяты ныне под Азовом, до нашего Великого Государя указа, держали у себя; а без нашего Великого Государя указа, на окуп и на размену не давали» [19] Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 4. — М.: Тип. С. Селивановского, 1826. — С. 279–280.
.
Если говорить несколько детальнее и применительно к рассматриваемым хронологическим рамкам, то надо отметить, что вплоть до середины XIX в. глава государства своими актами определял пункты интернирования пашей; утверждал (по представлению ГК на ТВД) размер денежного довольствия трехбунчужным пашам; принимал окончательное решение о перемещении генералов в пределах России; назначал им единовременные безвозвратные выплаты в виде: подъемных пособий, субсидий на пошив обмундирования, вознаграждений в связи с возвращением на родину и т. п. По окончанию войны император устанавливал сроки репатриации османских военачальников, а также разрешал некоторые другие вопросы (например: о покупке дома и (или) земельного участка турецкому генералу, не пожелавшему вернуться в отечество; об устройстве в России его родных и близких и пр.) [20] См., например: Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 10. Оп. 1. Д. 91. Л. 1; Ф. 15. Оп. 1. Д. 231. Л. 1, 4, 10, 18, 23–24, 34, 43, 181; Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 468. Оп. 1. Д. 3907. Л. 309; Ф. 1329. Оп. 1. Д. 68. Л. 442–443; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6907. Л. 190; Ф. 16. Оп. 1. Д. 1891. Л. 48.
.
Что касается иных высших органов государственного управления, то они, как правило, лишь конкретизировали и детализировали повеления монарха в части касающейся, например, маршрута эвакуации паши, используемых при этом видов транспорта (гужевой или водный), условий его расквартирования в «пункте водворения», норм обеспечения провиантом и другими видами довольствия и т. п. [21] См., например: РГИА. Ф. 1329. Оп. 2. Д. 33. Л. 27; Д. 85. Л. 18; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1391. Л. 18,24–25,36, 66; РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Кн. 5951. Л. 104.
VI. Нормативные приказы ГК на ТВД регламентировали режим содержания османских военачальников не только в период нахождения их при действующей армии, но и вплоть до прибытия в места интернирования. Говоря детальнее, ГК на ТВД своей властью устанавливал пашам размер денежного содержания (в XVIII столетии — всем, а позднее — только двухбунчужным), соответствующий положению каждого из них в военно-политической иерархии Османской империи. Он был вправе не только вернуть пленнику холодное оружие, но и позволить ему вести переписку со Стамбулом, равно как с любыми корреспондентами, находящимся в России и за ее пределами (переписка эта, разумеется, контролировалась). Он обеспечивал личную безопасность паши и сохранность его имущества, назначал офицеров конвоя, «прикреплял» к генералу персонального переводчика и фельдшера (при необходимости), а в конечном итоге — организовывал эвакуацию пленного военачальника, обеспечивая того «как деньгами на путь, так и всем потребным по пристойности чина его» [22] РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 735. Л. 22; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2113. Л. 4, 7, 16; Д. 2117. Л. 44; Д. 6691. Л. 4, 9-12; Д. 6907. Л. 263; Ф. 16. Оп. 1. Д. 1891. Л. 52–53; РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Кн. 5951. Л. 104; Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киев (ЦГИАК Украины). Ф. 1710. Оп. 2. Д. 893. Л. 3–4.
.
Читать дальше