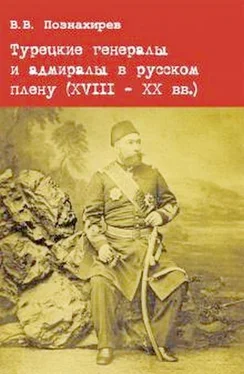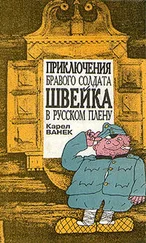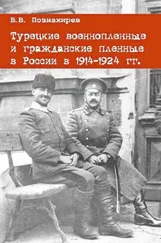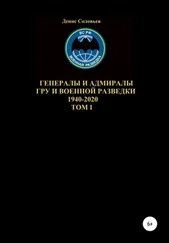• Весь описанный выше порядок, конечно же, не являлся незыблемым и мог видоизменяться в зависимости от конкретной ситуации. Начнем с того, что сам факт пленения генерала не всегда означал, что лично он и его имущество оказались теперь в безопасности. Так, после Авлияр-Аладжинского сражения в ходе выработки и подписания капитуляции Омер-паша [76] лишился почти всех своих вещей, которые неустановленные лица похитили прямо из его палатки. (И хотя командование Кавказской армии компенсировало генералу ущерб, преступление это, вероятно, было совершено турками, поскольку на тот момент российские войска еще не вступили в лагерь противника). Вице-адмирала Осман-пашу [61], судя по различным источникам, в течение нескольких часов ограбили дважды: сначала собственные подчиненные, а потом и русский матрос. (Правда, если первое подтверждено свидетельствами многих лиц, включая самого турецкого флотоводца, то последнее основано исключительно на рассказе одного из участников Синопского сражения, который сам очевидцем хищения не был) [74].
Не следует также думать, что все русские генералы непременно искали свидания с турецкими. Да, кто-то из россиян считал личное знакомство с пленным военачальником своим нравственным долгом; кто-то руководствовался чувством естественного любопытства. Но другие, наоборот, избегали такого рода свиданий. А может быть и не находили для них времени. К примеру, нам не удалось выявить никаких данных, хотя бы косвенно указывающих на то, что адмиралы Ф. Ф. Ушаков и Саид-бей [18], а также П. С. Нахимов и Осман-паша [61] вообще когда-либо видели друг друга. Д. Н. Сенявин, правда, встретился с Бекир-беем [27], но очень похоже, что сделал он это вынужденно, т. к. турецкий флотоводец категорически отказывался отдавать свой флаг любому другому русскому офицеру.
Вопросам разоружения османских военачальников тоже далеко не всегда уделялось должное внимание. Например, о том, что у трехбунчужного Ахмет-паши [37] осталась на руках сабля, стало известно лишь по прибытию генерала в Калугу в мае 1811 г., т. е. через девять месяцев после его пленения! Примечательно, что Калужский губернатор не решился самостоятельно изъять у паши оружие, а запросил указания Петербурга. Еще более примечательной выглядит реакция на эту новость тогдашнего Военного министра генерала М. Б. Барклая-де-Толли. «Саблю у Ахмета-паши конечно следовало бы отобрать как от военнопленного в свое время, — написал он в ответе губернатору. — Но теперь отнять оную значило бы усугубить меру того стесненного положения, которое ощущает всякий военнопленный. Сабля его теперь уже не страшна и потому я думаю, что она может при нем остаться».
Впрочем, иной раз из поля зрения российского командования исчезали не только сабли, но и… сами генералы. Так, 12 октября 1877 г., после взятия Горного Дубняка, пленного Хывзы-пашу [83] русские офицеры перепоручали друг другу до тех пор, пока тот не оказался «под опекой» подпоручика А. Ф. Ладыженского. Подпоручику передавать генерала, по понятным причинам, было уже некому, и он «приютил» его на ночь в своей палатке. Утром, когда турка хватились, выяснилось, что… палатка пуста. (Выставить около нее часового почему-то никто не удосужился). У русских началась паника, которая, однако, быстро улеглась, т. к. выяснилось, что ночью паша замерз, и они вместе с А. Ф. Ладыженским ушли досыпать в ближайшую деревню [75].
Наконец, надо признать, что русскими исполнялись далеко не все пожелания османских военачальников. Например, когда тот же Хывзы-паша [83] обратился сначала к генералу И. В. Гурко, а потом и к великому князю Николаю Николаевичу с просьбой дать ему какую-нибудь приличную шинель вместо сгоревшей в бою, он в обоих случаях не получил в ответ ничего, кроме пустых обещаний [76].
• Жилье пленным генералам отводилось, как правило, вблизи Главной квартиры, на биваках гвардейских или лучших армейских полков. Примерно до конца первой трети XIX в. в русском стане для турок нередко разбивали своего рода мини-лагерь, в котором размещался сам паша, а также офицеры его свиты, члены семьи и прислуга. Позднее паши стали занимать специально отведенные им изолированные помещения или отдельные палатки, а чаще — делить кров с российскими офицерами (обычно в чине не ниже полковника), не исключая даже главнокомандующих объединениями. Например, Бекир-бею [27] адмирал Д. Н. Сенявин уступил свою каюту, а Керим-паша [65], вплоть до его отправки в Тифлис, был гостем генерала Н. Н. Муравьева.
Читать дальше