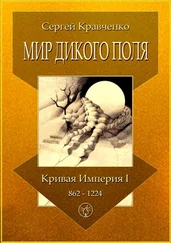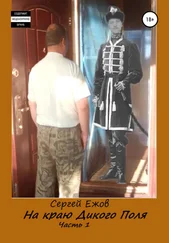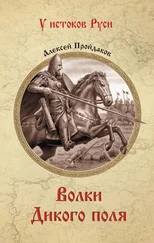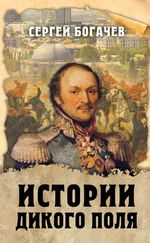В сохранении этой тайны для короля Польского и великого князя Литовского был двойной резон: с одной стороны, он получал себе на службу закаленных в походах бойцов, способных с легкостью и биться в поле, и отбиваться в осаде, и самим штурмовать крепости, которые ему были столь необходимы в Прибалтике в свете сравнительно недавнего вступления польско-литовского государства в Ливонскую войну; с другой стороны, удаление пассионарной части днепровского казачества на прибалтийский театр военных действий объективно лишало полуоседлое население южно-литовских воеводств и староств вожаков, способных организовать и возглавить так называемые «зацепки» — грабительские набеги на окраинные владения Крымского ханства, что полностью соответствовало характеру формально мирных отношений между Бахчисараем и Вильно в то время. Параллельно решался и хозяйственный вопрос: люди князя Дмитрия Вишневецкого, уже имевшие опыт испомещения в Московском царстве, были ценным человеческим ресурсом для распространения фольварочной системы землевладения, основанной на «Уставе на волоки» 1557 года, на разоренные войной земли Лифляндии и Ливонии. Как и в Московском царстве, им пришлось не только оборонять эти земли от внешнего врага (на этот раз им были русские служилые люди), но и отчасти восстанавливать хозяйственную жизнь этих областей Великого княжества Литовского.
Кроме того, удаление значительной части служилых людей Д.И. Вишневецкого на гарнизонную службу в лифляндские и ливонские крепости объективно решало участь и самого князя: оставшись без своей сравнительно многочисленной феодальной дружины, он уже не мог претендовать на сколько-нибудь самостоятельную роль во внутренней и внешней политике польско-литовского государства. Более того, князь остался и без своего днепровского замка на острове Хортица, который к тому времени или был разрушен крымскими татарами, или пришел в негодность из-за многолетнего запустения. Возвращение в Речь Посполитую превратило князя из полководца, имевшего европейскую известность, в заурядного феодала средней руки, оставшегося без всяких перспектив на активное участие в государственной жизни своей страны. Такова была плата за беспринципность и двурушничество в отношении обоих своих сюзеренов, которые им обоим стали понятны очень скоро.
Принимая князя Д.И. Вишневецкого вновь к себе на службу, точнее — давая ему возможность проживать на территории польско-литовского государства, король Польский и великий князь Литовский, казалось бы, не просто амнистировал, а полностью реабилитировал князя, демонстративно представляя его демарш пятилетней давности в сторону Московского царства как заранее спланированную и успешную им осуществленную стратегическую разведывательную операцию по выявлению обороноспособности и военного потенциала эвентуального противника, т. е. Московского государства, и мотивируя свою милость к нему тем, что князь Дмитрий ходил к московскому царю не для чего иного, как для того, чтобы узнать «можности и справы неприятеля» и тем принести как можно большую пользу Речи Посполитой. Данный конспирологический сюжет представляется нам весьма правдоподобным, по крайней мере, в свете документов дипломатической и административной переписки верховной власти Великого княжества Литовского, касающейся замыслов московского царя закрепить военное присутствие своего государства в регионе Среднего Поднепровья путем возведения в конце 1550-х гг. острога по образцу Дедиловского, который стал бы там форпостом Московии и преградил бы путь набегам крымских татар на пограничные черниговские и путивльские земли по левому берегу Днепра (на его правом берегу аналогичные функции выполняли Черкассы и Канев).
Однако, справедливости ради, следует сказать, что помимо польско-литовских источников мы не встречаем упоминания об этих военно-стратегических и геополитических планах русского правительства «Избранной рады» ни в документах Московского, но в документах Бахчисарайского дворов. Более того, этот сюжет документально связан только с двумя известными историческими персонажами того времени — королем и великим князем Сигизмундом II Августом и князем Д.И. Вишневецким, хотя круг лиц, кому он был известен, был значительно шире. А поэтому он может рассматриваться двояко: или как, говоря современным языком, гениальная контрразведывательная операция по срыву военных планов Московского государства, осуществленная князем с высочайшего одобрения и согласия, или как масштабная дезинформация и даже мистификация все тем же князем своего монарха с целях прикрытия им своих честолюбивых планов по созданию в среднем течении Днепра за счет ряда пограничных воеводств Великого княжества Литовского, нейтральных земель Дикого поля и окрестностей пограничных крепостей Крымского ханства собственного полузависимого от Речи Посполитой государства. В любом случае, обе эти версии объясняют забвение имени князя официальной иерархией Речи Посполитой после 1561 года.
Читать дальше
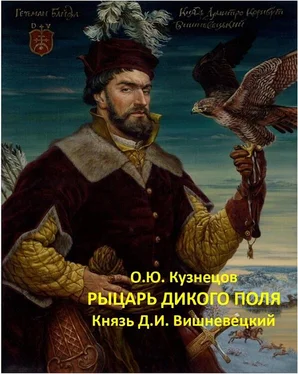
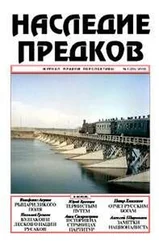
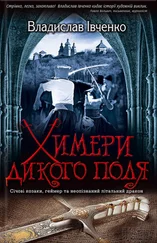
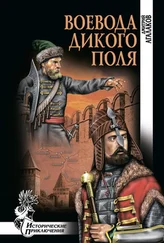
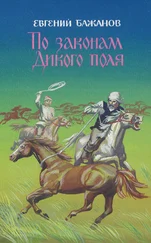
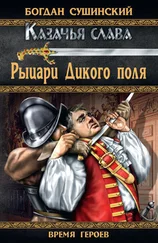
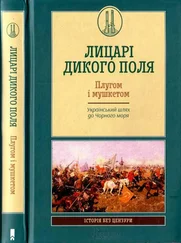
![Сергей Ежов - На краю Дикого Поля [СИ]](/books/428370/sergej-ezhov-na-krayu-dikogo-polya-si-thumb.webp)