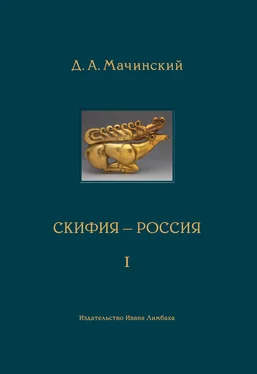Мои тезисы по недосмотру были включены в «Тезисы советской делегации», но в Варшаве глава нашей делегации Б. А. Рыбаков передал мне через посредника, что запрещает делать соответствующий доклад на конгрессе. Я, поддерживаемый польскими коллегами (T. Dąbrowska, L. Okulicz и др.), возмущенными этим запретом, сообщил ленинградским коллегам, что не собираюсь подчиняться ему, но уважаемый мной П. А. Раппопорт умолял меня не делать этого, так как этим я наврежу всему Сектору славяно-русской археологии ЛО ИА. Я уступил — а зря.
В тезисах 1965 г. (которые я намеревался развернуть и проиллюстрировать в докладе) была выдвинута «рабочая гипотеза»: во II в. до н. э. «в бассейн Одера, Вислы и Эльбы проникает какое-то новое население, что приводит к гибели кельтского населения Средней Силезии и к отливу большей части „поморского“ населения на восток, где его появление отражается в возникновении памятников зарубинецкого типа. Захват кельтского оружия и, возможно, ремесленников придает особую окраску культуре населения бассейна Вислы и Одера (а частично и Эльбы), в состав которого входят как частично оставшееся „поморское население“, так и население пришлое, которое сыграло важную роль в создании и развитии пшеворской культуры». Эта «гипотеза» о ведущей роли северо-западного «третьего этнокомпонента» как катализатора этнокультурных процессов ныне, начиная с 1980-х гг., в основных чертах подтверждена тщательными исследованиями польских ученых (Niewęgłowski 1981; Dąbrowska 1988: 192–229, 315, 316, 319), хотя я в 1965 г. придавал (и придаю) еще бо́льшее значение этому компоненту в феномене внезапного возникновения поразительной по яркости пшеворской культуры. Единственное, что я знал уже тогда, но, щадя «национальные чувства» польских и советских коллег, не сказал прямо (хотя это определенно следует из логики текста тезисов), — это то, что «третий компонент» вторгается явно с севера и северо-запада (Ютландия, острова Балтики, Южная Швеция) и является явно северогерманским. Иными словами, я неявно указывал на участие ясторф-культуры в событиях, связанных с возникновением пшеворской и зарубинецкой культуры, только делал акцент на ее северных локальных вариантах. М. Б. Щукин, пересказывая суть моих тезисов 1965 г., свидетельствует, что в беседах с ним я тогда говорил именно это (Щукин 1993: 89). Мое «первопроходство» в этом «открытии» он также полностью признает, сам склоняется к приятию этой концепции (в отношении «пшевора») и не предлагает альтернативной (Щукин 1994а: 104–107). Основные положения этих тезисов отнюдь не были найдены «интуитивно», а базировались на изучении всей доступной литературы, в которой уже тогда содержались достаточные фактические основания для построения той концепции, которую я из осторожности назвал «рабочей гипотезой». Ошибочны в этих тезисах только более поздние, чем принятые ныне, датировки, но в этом я следовал общепринятой тогда хронологии Я. Филипа и Р. Хахманна.
Предпочитаю этот термин, заимствованный (zdobiona fibula) у польских коллег (T. Dąbrowska и др.), названию «расчлененная фибула», от которого «попахивает» прозекторской.
Как и в 1966 г., я (как и В. Е. Еременко в 1997 г.) использую только результаты раскопок R. Vulpe, поскольку монография, содержащая результаты раскопок могильника Поенешти (Babeş 1993), еще не проработана мной.
Для краткости объединяю все фибулы с шариками в один тип, хотя среди них можно выделить два варианта.
Все отмеченные мной сосуды из Велемичей I В. Е. Еременко почему-то относит к группе «импортов», что совершенно безосновательно (Еременко 2000б: табл. 9), и никоим образом не сопоставляет отмеченные выше сосуды из Поенешти, Велемичей I и Головно II (Еременко 1997). Любопытно, что и С. В. Пачкова ни разу не воспроизводит в бесчисленных таблицах своей обстоятельной монографии эти сосуды, даже тогда, когда она пытается найти зарубинецкие аналоги поморским сосудам с высокой горловиной, отделенной уступом от тулова. Так, на рис. 75, 7, 8 она сопоставляет поморский сосуд с сосудом погребения № 63 Отвержичей, хотя ему несомненно ближе по пропорциям и орнаментации (правда, резной) нижней половины тулова сосуд погребения № 105 Поенешти, а сосуд из Отвержичей явно представляет более поздний этап в развитии сосудов этого типа. В итоге получается, что и откровенный миграционист, и умеренный автохтонист сходятся в игнорировании целого горизонта древностей, важных для понимания истоков и зарубинецкой культуры, и культуры поенешти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу