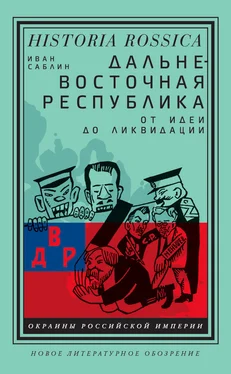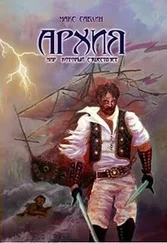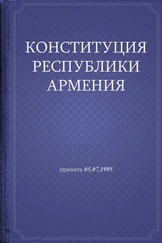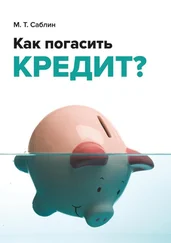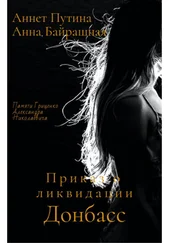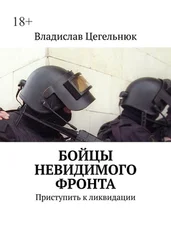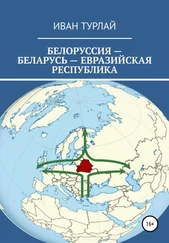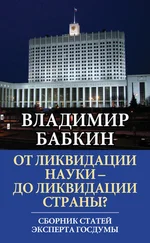Это означало, что японские представители не считают владивостокское правительство способным помешать приходу советской власти. Представители других иностранных держав тоже прекрасно знали о зависимости Медведева от местных большевиков. В конце февраля 1920 года Эрнест Ллойд Харрис, консул США, сообщал Государственному департаменту, что владивостокское правительство и другие так называемые эсеровские правительства в скором времени «утратят свою автономию и окажутся под прямым контролем Москвы» и, как только все иностранные войска покинут Сибирь, они немедленно объединятся с большевиками. Более того, владивостокские власти прибегли к радикальным мерам в области экономики, закрыв три российских банка, арестовав их директоров и обыскав их дома: по словам Харриса, подобная политика сделала «иностранную торговлю невозможной» и продемонстрировала, что земство готовится к «немедленному поглощению большевиками» [479] Ibid. P. 545–546.
.
Несмотря на резолюцию Политбюро в пользу буферного государства, Совнарком попытался установить отношения с США и Японией напрямую, сделав им в конце февраля 1920 года сепаратные предложения по возможностям для инвестиций и торговым привилегиям, а также признав особые интересы Японии на Дальнем Востоке [480] Ibid. P. 447–448.
. Тем временем большевистские группы во Владивостоке и Иркутске продолжали вести независимую друг от друга политику. 3 марта 1920 года, после того как советские и партизанские отряды под предводительством Калашникова взяли Верхнеудинск, большевистское Сибирское бюро (Сиббюро) под руководством Смирнова учредило Дальбюро (Краснощёков, Николай Кузьмич Гончаров, Ширямов, Кушнарёв, Лазо и Никифоров) [481] Кандидатом в члены был назван Павел Петрович Постышев.
, чтобы координировать формирование буферного государства. 9 марта Верхнеудинское уездное земство, умеренные социалисты, крестьянские и бурятские активисты учредили в Верхнеудинске Временную земскую власть Прибайкалья под руководством меньшевика Ивана Адриановича Пятидесятникова, в то время как японские войска, сохранившие нейтралитет, отступили в Читу. Краснощёков стал временным членом нового правительства. Умеренные социалисты надеялись, что демократическая легитимность земств позволит прекратить Гражданскую войну. Калашников попытался привлечь на свою сторону каппелевцев, обратившись напрямую к их командиру Сергею Николаевичу Войцеховскому, но Войцеховский отказался заключать мир с Красной армией и предложил верхнеудинскому правительству вместо этого подчиниться ему и присоединиться к войне против Советской России [482] ГАРФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–1о б. (Протокол объединенного заседания комитетов социалистических партий: коммунистов, социал-демократов и социалистов-революционеров г. Верхнеудинска, 7 марта 1920 г.); Л. 6–8 об. (Протокол заседания Верхнеудинской земской управы и представителей политических партий и общественных организаций, 9 марта 1920 г.); Дальневосточная политика Советской России, 1920–1922 гг.: Сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. С. 20–21, 25–26, 32–33. По данным леволиберальной газеты «Вечер», которую издавали Кроль, Моравский и другие, по прибытии в Забайкалье Войцеховский также предложил свое сотрудничество Медведеву, Василию Георгиевичу Болдыреву (который вернулся во Владивосток из Японии) и Дмитрию Леонидовичу Хорвату, все еще контролировавшему зону отчуждения КВЖД независимо от Семёнова, при условии, что будущая демократическая власть не заключит мира с большевиками. Владивостокское правительство не приняло предложения, и Войцеховский пошел за службу к Семёнову, став командующим армией Российской Восточной окраины. См.: Вечер. 1920, 6 мая. С. 2.
.
Хотя верхнеудинское правительство претендовало лишь на местную власть вплоть до формирования единого дальневосточного правительства, Сиббюро провозгласило его «центральным правительством» еще не провозглашенной на тот момент «Дальневосточной республики», и владивостокское правительство должно было находиться у него в подчинении. 18 марта 1920 года в попытке скрыть, что руководство Восточно-Сибирской советской армии является большевистским, она была переименована обратно в Народно-революционную армию (НРА). Тем не менее ее усилили регулярными советскими частями и подчинили советскому командованию (во главе НРА встал бывший командир Пятой Красной армии Генрих Христофорович Эйхе), а не верхнеудинскому правительству. Областные эсеровские и меньшевистские организации выразили протест, а Калашников подал в отставку. Впрочем, и объединение просоветских группировок под властью большевиков оказалось непростой задачей. Радикальные левые эсеры, эсеры-максималисты и анархисты отвергали любые компромиссы с имущим классом и интервентами, а многие партизанские отряды, в состав которых входили корейцы и китайцы, действовали совершенно независимо друг от друга и не прекратили военных действий ни против бывших соратников Колчака, ни тем более против японцев – главного врага корейских партизан. Многие солдаты Народно-революционной армии также были против формирования буферного государства, призывая к воссоединению Российского государства [483] РГИА ДВ. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 22. Л. 32–62 ( Ли Ин Себ . Воспоминания о годах интервенции и гражданской войны. 1918–1922 гг.); Дальневосточная политика Советской России, 1920–1922 гг.: Сб. документов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. C. 19–20, 29–30; Парфёнов П. С. Борьба за Дальний Восток. С. 153–156.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу