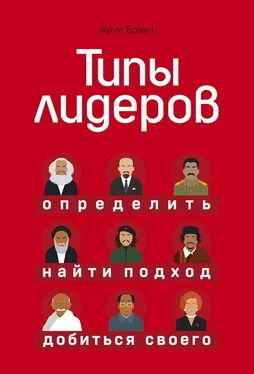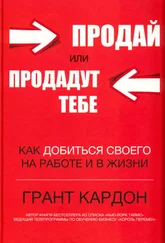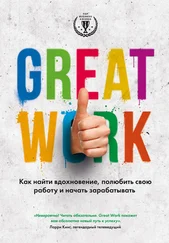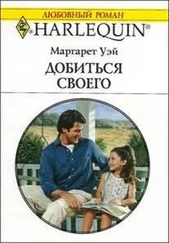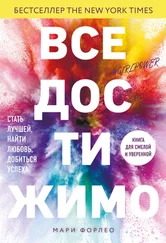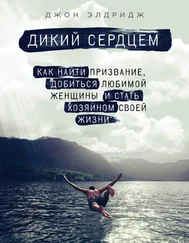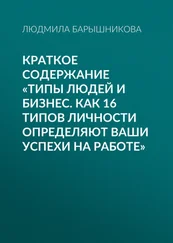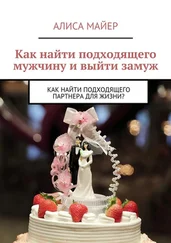До конца 1920-х годов Сталин в качестве преемника Ленина постепенно консолидировал свою власть. Он поочередно поддерживал разные группировки внутри руководства Коммунистической партии и избегал демонстрации своего стремления к диктаторским полномочиям. К 1929 году Сталин уже очевидно доминировал, хотя некоторые элементы коллективного руководства еще сохранялись даже в начале 1930-х годов. Тем не менее, как указывает один из ведущих специалистов по советской истории того периода, к 1933 году Сталин «уже был единоличным диктатором, чье мнение, судя по всему, никогда не оспаривалось на Политбюро» [771]. Главного противника Сталина, Льва Троцкого, сначала изгнали из высшего руководства и из партии (1927), затем отправили в ссылку (1928), а потом выслали из страны в 1929 году. Впоследствии по распоряжению Сталина были убиты многие из ведущих участников революции 1917 года, в том числе Николай Бухарин. Большинство из них было казнено после показательных Московских процессов 1936–1938 гг., а в 1940 году в Мексике агент НКВД убил ледорубом Льва Троцкого.
В отличие от 1930-х годов в 1920-х в Коммунистической партии Советского Союза происходила определенная полемика, даже несмотря на то, что другие партии были запрещены. Введенная Лениным после Гражданской войны новая экономическая политика (НЭП) предусматривала определенные послабления для крестьянства, сохранявшиеся и в период относительно коллективного руководства до конца двадцатых годов. Начиная с 1929 года Сталин повел кампанию принудительной коллективизации сельского хозяйства, в ходе которой к концу 1933 года более двух миллионов крестьян было депортировано из их родных мест. Голод, ставший следствием принудительной сдачи хлеба государству, унес жизни более пяти миллионов жителей Украины, Юга России и Северного Кавказа [772]. Сталин следил за процессом коллективизации с особым пристрастием и лично настоял на введении смертной казни за кражу зерна с колхозных полей (она была введена постановлением от 7 августа 1932 года) [773].
Сталин был полон решимости провести ускоренную индустриализацию страны, и в 1930-е годы она пошла вперед быстрыми темпами, сопровождаясь резким ростом социальной мобильности населения. Но это досталось дорогой ценой. Даже находясь на вершине власти, Сталин, по очевидным причинам, не мог принимать все без исключения серьезные решения в масштабах страны. Помимо него, на разных уровнях системы властью распоряжался государственный аппарат, и со временем эти учреждения приобрели собственные ведомственные интересы, которые старались защищать. Тем не менее Сталину удалось сломать сложившуюся в 1920-х годах «олигархию». Как замечает один российский ученый, тщательно изучивший период его правления, основой личной диктатуры была «безграничная власть» над «судьбами любых советских деятелей, в том числе и членов Политбюро» [774].
Деятельность некоторых госучреждений вызывала особенно пристальный интерес Сталина. Особенно внимательно он следил за работой органов госбезопасности и лично контролировал репрессии. Всего за два года, с 1937-го по 1938-й, было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых как минимум 818 тысяч было расстреляно [775]. В их числе было огромное количество мнимых врагов советской власти и Сталина лично и значительно меньше настоящих антикоммунистов. Жертвами стали несколько членов Политбюро, а также значительная часть высшего командного состава армии. Одной из самых заметных фигур из числа последних был Михаил Тухачевский, сражавшийся во время Гражданской войны на стороне большевиков, а впоследствии игравший одну из ключевых ролей в модернизации Красной армии. Жестко контролирующий НКВД Сталин распоряжался жизнью и смертью своих «коллег». При этом его сети раскидывались и гораздо шире. Некоторые социальные слои были мишенью репрессий в значительно большей степени, чем другие. Вероятность ареста была значительно выше для представителей бывшего дворянства, духовенства, интеллигенции и крестьянства, чем для заводских рабочих. В конце 1930-х годов, когда Сталин все усерднее выискивал внутреннего врага, жертвами его болезненного недоверия регулярно становились высшие партийные и государственные чиновники, причем особенно высокие шансы попасть под расстрел имели сменявшие друг друга руководители «органов» — то есть непосредственные исполнители чисток. Ни одна социальная группа и ни один отдельно взятый человек не были застрахованы от ареста по подозрению в зачастую вымышленных (а не реальных, как у НКВД) преступлениях. Справедливо отмечалось, что массовые репрессии Сталина «отличают его режим от предшествовавшего ему ленинского и от выборочных репрессий, к которым прибегала Советская власть впоследствии» [776].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу