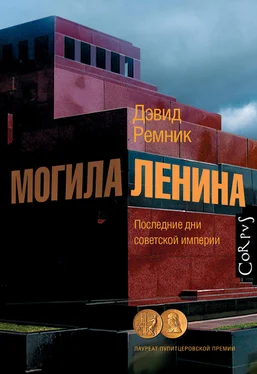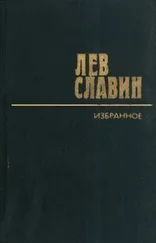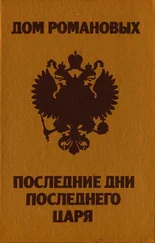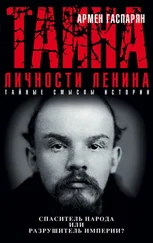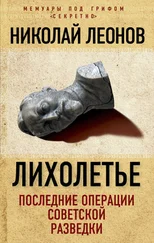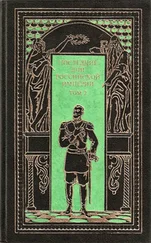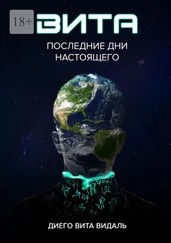Письмо Чуковской произвело сенсацию. К ней домой и в видавшую виды редакцию газеты стали приходить тысячи писем и телеграмм со словами поддержки. Цековские работники сообщали, что им тоже поступает все больше писем с требованием реабилитировать Солженицына и его книги. Статья Чуковской и реакция на нее стали знаками, сигнализирующими о новых политических возможностях и нравственных потребностях. Вскоре последовали новые публикации. Первой выступила провинциальная газета украинских железнодорожников “Рабочее слово”: на ее страницах впервые за почти 30 лет в открытой печати появился текст самого Солженицына. 18 октября 45 500 подписчиков газеты услышали пророческий голос из прошлого: в 1974 году, в год своей высылки, Солженицын обращался к молодому поколению с призывом “Жить не по лжи”:
“Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем! Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости”.
Солженицын из Кавендиша в штате Вермонт пытался ообозначить условия своего возвращения. Редакторы “Нового мира” говорили с ним по телефону и обменивались телеграммами: они просили разрешения напечатать два его ранних романа — “Раковый корпус” и “В круге первом”. Солженицын отказался: он настаивал, чтобы прежде всех его остальных книг на родине вышел “Архипелаг ГУЛАГ”. Эта книга была не только памятником, который он воздвиг миллионам жертв советского режима: именно из-за ее публикации на Западе Солженицына арестовали и выдворили из страны. Солженицын, по сути, требовал, чтобы ему дали возможность как можно быстрее развенчать и новейшую официальную версию советского прошлого. Солженицын не считал, как Горбачев, что социализм просто пошел по неверному пути, что во всем виноват Сталин. Трехтомный “Опыт художественного исследования” доказывал, что лагерная система принудительного труда не была “отклонением”: ее учредил Ленин.
Редакторы согласились на требование писателя. Теперь им предстояло вести переговоры почти со столь же неуступчивой инстанцией: с КПСС. Сначала они решили действовать, не входя ни в какие обсуждения с партийными органами, и протащить Солженицына на страницы “Нового мира” контрабандой.
В 1988 году на задней обложке октябрьского номера было размещено загадочное объявление, уведомлявшее, что журнал получил разрешение от Солженицына опубликовать в новом году “некоторые его произведения”. Но идеологический отдел ЦК, у которого, конечно, были информаторы в типографии “Известий”, где печатался “Новый мир”, быстро пресек попытку. Среди ночи в типографию позвонил не назвавший себя чиновник из ЦК и твердо приказал “остановить работу”. “Печатников это возмутило, — вспоминал редактор «Нового мира» Вадим Борисов, теснее всех работавший с Солженицыным. — Они с почтением относились к гласности, к демократии, к имени Солженицына. Они были вне себя и пригласили в типографию репортеров из газет и с телевидения. Но никто не пришел”. Работникам типографии пришлось пустить под нож больше миллиона обложек и напечатать новые — без объявления о Солженицыне. Лишь немногие подписчики, в основном украинские, получили журнал с первоначальной обложкой.
Вскоре Вадим Медведев, сменивший Лигачева на посту главного партийного идеолога, раскритиковал Солженицына за “пасквиль” на Ленина и советскую власть. На пресс-конфренции Медведев заявил журналистам, что “Архипелаг ГУЛАГ” и “Ленин в Цюрихе” подрывают основы советской жизни.
Эти основы, впрочем, и так стремительно расшатывались. Гласность набирала обороты, ее подпитывали публикации с именем Солженицына в “Книжном обозрении”, “Рабочем слове” и других изданиях, слухи о происшествии с “Новым миром”, — ее уже нельзя было сдержать или проигнорировать. “Новый мир” чувствовал, что может продолжать гнуть свою линию. Главный редактор журнала, Сергей Залыгин был фигурой противоречивой. Низенький, пожилой человек (ему было за 70), он в брежневские времена “ловко маневрировал” и постоянно поступался принципами, чтобы остаться на плаву. Подобно Лену Карпинскому из “Московских новостей” и Виталию Коротичу из “Огонька”, Залыгину было о чем жалеть. Гласность для него стала, по его собственному признанию, “последним шансом”. Он захотел по возможности исправить свои ошибки и действовать с вызывающим упорством. Шесть номеров подряд он анонсировал в следующем журнале Нобелевскую лекцию Солженицына, и все шесть раз цензоры выкидывали анонс. Такой же стратегии придерживался в 1960-е легендарный редактор оттепельного “Нового мира” Александр Твардовский. Залыгин, кроме того, тихо агитировал в пользу публикации некоторых членов политбюро, в том числе самого Горбачева. Залыгин знал, что в партийном руководстве существуют острые идеологические разногласия, особенно по вопросам истории и гласности, и собирался дождаться подходящего момента. Он прекрасно понимал, насколько сложно положение Горбачева. Многие их тех, кто раньше его поддерживал — средний класс и интеллигенция, — теряли терпение и разочаровывались в реформах. Отказ печатать Солженицына мог еще больше навредить его популярности. Но Горбачев был верным ленинцем, “убежденным коммунистом” и зависел от поддержки партийного аппарата. Ему нужно было найти изящный, негрубый способ переменить официальную политику и в то же время дистанцироваться от писателя, презиравшего систему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу