Суждения Шэнь Юэ и Лю Фана, далеко не совпадающие, напоминают о необходимости исторического подхода к традиционной социальной терминологии в Китае. Но они же вновь побуждают задуматься над причинами ее необычайной живучести. Ибо, что бы ни думали ученые люди средневековья, термин «ши» был распространенным самоназванием верхов ханьского общества, и китайцы того времени отлично знали, кого можно назвать ши, а кого нельзя. Трудность в том, что соответствующие оценки всякий раз несут на себе явную печать субъективизма.
Вероятно, мы скорее приблизимся к пониманию смысла категории ши, если не будем стремиться отождествить ее с определенным социальным слоем и искать его юридически оформленные границы, каковых не было даже в эпоху Шэнь Юэ. Воспримем образ ши как человеческий идеал и норму культуры, отчужденные от взыскующих их, но определявшие индивидуальное поведение. Подобная нормативность обычна в архаических цивилизациях; в Китае она была столь же универсальна и незыблема, как и представление об имперском порядке – продукте внесоциальных, в своем роде «технологических» условий.
Удобнее поэтому начать с уяснения социальной идеи ши, отображавшей как раз те абсолютные ценности культуры императорского Китая, о которых говорилось выше. Идея эта кажется весьма расплывчатой и смутной: речь идет о некоем чувстве собственного достоинства, сознании своего великого назначения и решимости претворить его. Истоки пафоса культуры ши станут более понятными, если учесть, что их первые поколения, переняв свое самоназвание от чжоуской аристократии, в действительности противопоставили чжоускому аристократизму акцент на личной доблести, принцип отбора на службу по способностям и награждения по заслугам. Апология индивидуального «таланта» естественно перерастала в его абсолютизацию. Из массы рассеянных в древнекитайских трактатах дифирамбов гипотетическим мудрецам приведем только один – из «Лунь юя»: «Цзэн-цзы сказал: „Не бывает ши без широты ума и твердости духа. Его ноша тяжела, а путь его долог. Гуманизм – вот ноша, которую он считает своим долгом нести, – разве не тяжела она? Только смерть прерывает его путь – разве не долог он?“» [Лунь юй, VIII, 7].
Цзэн-цзы, как и все другие создатели культуры имперской элиты, говорит не о том, кто есть ши, но каким ему подобает быть. Перед нами, конечно, идеальный образ; герой апологетов личного таланта, заведомо объявленный вместилищем «совершенной добродетели», был призван взять на себя тяжелейшую из всех мыслимых нош – бремя устремленности к наивысшему совершенству, состоянию «единства с Небом». На этом пути у него не было никаких непреодолимых преград, но не было и отдыха, не было и конца пути. Идеал, укорененный в самом человеке, оставался превыше всего – изреченный, не постигаемый умственно, «глубокий, как бездна, великий, как Небо» (слова конфуцианского трактата «Середина и постоянство»).
Основа основ душевного состояния ши – «решимость», «воля» (чжи) к достижению неисчерпаемого идеала. Достаточно вспомнить, что Мэн-цзы идеограмматически толковал понятие «чжи» как «сердце ши». Такая возвышенная воля являла собой не временный душевный порыв или результат определенного решения, но постоянную волевую наклонность, не зависевшую от настроений, чувств и внешних обстоятельств. Конфуций уподоблял наделенного этой волей «благородного мужа» (цзюнь цзы) кипарису, не сбрасывающему своего зеленого убора даже в морозы 1.
Исторически становление культуры ши можно рассматривать как процесс рационализации архаической религии и социального уклада в категориях морали и административного контроля. Во всех памятниках этой культуры имплицитно, а в некоторых – например, в «Чуских строфах» – и вполне явственно нашла отражение тема отчужденности человека от древних богов, отобразившая распад родового общества в процессе формирования деспотической государственности. Утратившие связь с архаическим социумом служилые люди в поисках рациональной основы своего бытия обратились к идее безличного абсолюта как движительного начала мира и незыблемой Судьбы всего сущего, стоящих выше божеств и демонов. Можно сказать, что в отличие от Запада китайская (имперская) традиция не столько очеловечивает бога, наделяя его личностными качествами, сколько обожествляет человека, ставя его, как обладателя «всей полноты Небесной природы», в центр космического – ритуального по характеру и сакрального по своей значимости – процесса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
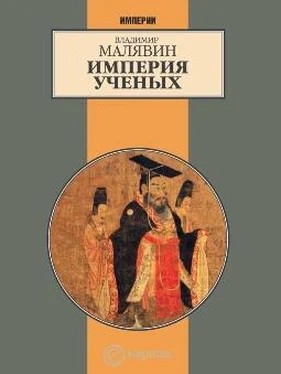







![Владимир Марков-Бабкин - Империя. Исправляя чистовик [СИ]](/books/434977/vladimir-markov-thumb.webp)



