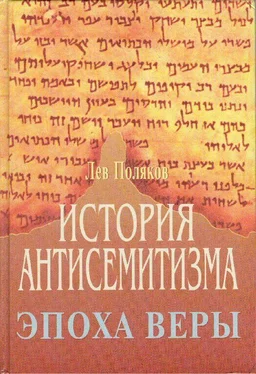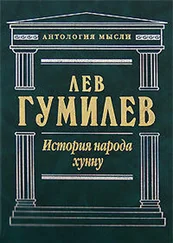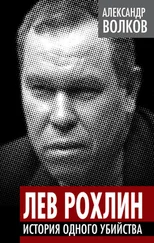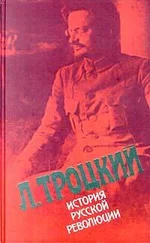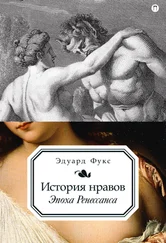Кроме того, были и евреи-чиновники, иногда очень высокого ранга. В иерархии Империи можно было встретить евреев-всадников и евреев-сенаторов, евреев-легатов и даже евреев-преторов. К этому следует добавить, что евреи диаспоры как правило усваивали язык и одежду тех провинций Империи, куда они попадали. Кроме того, они настолько ассимилировались в языковом и культурном отношении, что даже эллинизировали или латинизировали свои имена. Все это позволяет сделать вывод, что они не должны были вызывать к себе особую враждебность, и ничто кроме религии не выделяло их в мозаике народов, составлявших население Римской империи.
Ничто кроме религии… Необходимо повторить еще раз, что именно религия предписывала им, в отличие от всех остальных культов, строго определенный объем обязанностей, что полностью противопоставляло их общепринятому образу жизни, которого безоговорочно придерживались все остальные подданные Империи. «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» – первая заповедь запрещала евреям воздание любых почестей богам Империи и города, а также живым богам, каковыми являлись обожествляемые монархи. В этом смысле четвертая заповедь также была чревата тяжелыми последствиями: «А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя…» Столкнувшись с еврейской непреклонностью в этом отношении, римляне как опытные администраторы быстро пришли к определенным компромиссам, в частности освобождавшим евреев от необходимости приносить жертвы императорам. В результате эти привилегии составляли существенную причину для зависти и могли даже провоцировать конфликты, особенно в крупных городах Востока с их смешанным населением. Это вполне понятно, и мы даже располагаем ценным свидетельством в третьей главе книги Есфирь. Речь идет о неприятии вельможей Аманом независимого поведения Мардохея, который «не кланялся и не падал ниц перед ним.» Уязвленный царедворец нашептывал на ухо царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их…»
Но встречались не только ревнивые придворные. Другой текст позволяет получить представление о презрительном и враждебном отношении римского аристократа, столкнувшегося с еврейской непримиримостью. Здесь имеется в виду речь Флакка, префекта Египта, который попытался во время беспорядков 35-40-х годов запретить александрийским евреям праздновать субботу вопреки четким инструкциям, полученным из Рима.
«Если в субботу произойдет внезапное вторжение врагов, разлив Нила, пожар, удар молнии, голод, чума, землетрясение или какое-то другое несчастье, неужели вы по-прежнему будете спокойно оставаться дома? Или согласно вашим обычаям вы станете прогуливаться по улицам, засунув руки в карманы, и даже не попытаетесь помочь тем, кто будет спасать людей? Или вы продолжите торжественные собрания в ваших синагогах и станете читать ваши священные книги, толковать темные места и углубляться в философские премудрости? Но нет, не теряя ни мгновения, вы постараетесь укрыть в безопасном месте ваших родителей, ваших детей, ваши богатства и все, что вам дорого. И вот я собрал все это вместе – бурю, войну, наводнение, молнии, голод, землетрясение и рок, причем не абстрактно, а в виде реальной действующей силы!»
С другой стороны, тот знак избранности, которым служило обрезание, не мог не вызывать всевозможных толков. Гораций писал о curtis judoeis («обрезанных иудеях»), Марциал иронизировал по поводу recutitus («обрезанных»), а Катулл говорил о verpus priapus ille («пресловутом обрезанном члене»). К этому следует добавить и другие предписания, которые служат выражением еврейской обособленности и изолирующей силы Закона: «И не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего» (Второзаконие,VП,3). Тем самым, еврейский монотеизм оказывал значительное влияние на повседневную жизнь, варьировавшееся в зависимости от времени и места. В античном мире, если не считать Александрии, не было серьезных вспышек народного гнева по каким-либо иным поводам кроме войн и еврейских восстаний. В диаспоре самым кровавым было восстание в Киренаике (115-117), в результате которого в руинах оказалась столица этого государства. В обычное время простонародье не обращало особого внимания на евреев и, похоже, не испытывало против них никаких особых предубеждений. Что же касается тех, чьим основным занятием была литературная деятельность, то они отмечали тесную спаянность «обрезанных», за что их обвиняли в мизантропии – их считали преданными друг другу, но враждебными язычникам. Во многих сочинениях языческих авторов отмечается также боевой дух евреев. Эти тексты заслуживают специального рассмотрения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу